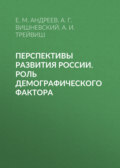А. Г. Вишневский
Время демографических перемен. Избранные статьи
© Вишневский А. Г., 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015
* * *
Раздел 1
Демографический переход
Демографическая реальность в свете теории и идеологии[1]
Теория, идеология и смена «картины мира»
Демографические процессы, которые еще 100 лет назад привлекали внимание лишь немногочисленных специалистов (а если говорить о нашей стране, то так было еще и 50 лет назад), сегодня стремительно выдвигаются едва ли не в самый центр общественного внимания. Демографам приходится искать ответы на множество интересующих общество весьма непростых вопросов. Вопрос о низкой рождаемости – может быть, самый загадочный и сложный.
В самом деле, во всех современных городских обществах наблюдается падение рождаемости, которое, если оно идет непрерывно, имеет своим неизбежным следствием прекращение роста населения, а затем и его сокращение (депопуляцию). Всякий раз, когда общество сталкивается с этой угрозой (впервые это произошло во Франции в XIX столетии), обнаруживается однотипная реакция общественного мнения, начинаются поиски политических и научных ответов на этот вызов, средств лечения неизвестной болезни. Однако, несмотря на то что такие поиски ведутся в разных странах уже не менее 100 лет, больших успехов они не принесли. Рождаемость в наиболее богатых, экономически развитых странах продолжает снижаться, почти повсеместно она давно уже опустилась ниже уровня простого замещения поколений, и отрыв от этого уровня с каждым годом становится все большим. Попытки воздействовать на рождаемость, задержать ее падение или добиться ее повышения неизменно терпят фиаско.
По мере того, как нарастает опыт неудач подобного воздействия, увеличиваются и сомнения – вначале по поводу выбираемых средств воздействия, а затем и по поводу самого диагноза той болезни, которую пытаются лечить с помощью этих средств. Все лучше осознаётся недостаточность теоретических представлений, лежащих в основе современных взглядов на рождаемость и ее детерминацию, появляются попытки новых объяснений и возникают новые споры, разрешение которых требует лучшего осмысления методологических подходов к построению непротиворечивой теоретической концепции массового демографического (и более широко – социального) поведения.
Разумеется, задача создания такой концепции не относится к числу простых. Возникающие в связи с этим споры внутри научного сообщества – нормальное явление, только они и могут приблизить исследователей к пониманию истинных внутренних механизмов социального поведения. Однако достаточно долгий опыт таких споров в разных странах показывает, что в них всегда присутствует и бесплодный компонент, который не приближает к решению означенной задачи, а удаляет от него, ибо спорящие нередко говорят на разных языках и просто не слышат друг друга. Мне кажется, что одна из главных причин этого диалога глухих – идеологизация научного знания, внесение в него некоторых априорных компонентов, что противоречит самой природе науки как способа познания неизвестного. Поэтому первое, что хочется сделать, это попытаться разобраться в соотношении «теории» и «идеологии».
Как полагал В. Даль, теория – это «умозренье, умозаключенье; заключенье… из чего-либо, не по явленью на деле, а по выводам своим; …Теоретический, умозрительный, умозаключительный. Теорик, теоретик, кто держится одних умозрений, верит им, стоит на них». Но такое понимание теории кажется устаревшим. Как разъясняет последнее издание Большой советской энциклопедии, теория (правда, «в более узком и специальном смысле») – это «высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существующих связях определенной области действительности – объекта данной теории».
А что же такое идеология? Обратимся еще раз к БСЭ. Идеология – это «система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, <…> а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений».
Но вот что интересно. В той же БСЭ говорится, что Маркс и Энгельс под идеологией понимали (1) «идеалистическую концепцию, согласно которой мир представляет собой воплощение идей, мыслей, принципов»; (2) «соответствующий этой концепции тип мыслительного процесса, когда его субъекты – идеологи <…> постоянно воспроизводят иллюзию абсолютной самостоятельности общественных идей»; (3) вытекающий отсюда метод подхода к действительности, состоящий в конструировании желаемой, но мнимой реальности, которая выдается за самою действительность». Таким образом, Маркс и Энгельс противопоставляли идеологию теории как научному знанию. Ленин же, как говорится далее в БСЭ, «расширил понятие идеологии, введя категорию “научной идеологии”», каковой и был назначен марксизм.
Я привожу все эти цитаты не для того, чтобы найти в них какую-то истину, а для того, чтобы показать, как понимание того, что такое теория и идеология, «плавает», одно перетекает в другое, и эти два понятия часто смешиваются. Поэтому я просто уточню, что буду под теорией понимать «научную» теорию, описывающую объективные внутренние взаимосвязи, механизмы и т. д. изучаемого объекта и лишенную какой бы то ни было оценивающей, аксиологической составляющей. А идеология в моем понимании – это именно система взглядов, подчиненная каким-то аксиологическим критериям: представлениям о добре и зле, благе и вреде и т. п. и не в последнюю очередь занятая «конструированием желаемой, но мнимой реальности». Можно сказать, что теория, с моей точки зрения, – это феномен из области науки, а идеология – из области веры.
Истинные отношения между теорией и идеологией, особенно в сфере социального знания, довольно сложны. Идеология часто рядится в одежды теории, а теория столь же часто открещивается от идеологии. Но на деле обычно приходится сталкиваться с комбинацией того и другого в соотношении, которое зависит от общего мировоззрения теоретиков и идеологов. А оно, в свою очередь, при всем значении индивидуальных склонностей каждого из них, в решающей степени предопределено историческим состоянием общества и той картиной мира, которая соответствует достигнутому им уровню развития.
Особенность нашего времени, едва ли не самая главная черта интеллектуальной жизни той эпохи, в которой мы живем, – кардинальная смена картины мира. Эта эпоха длится уже не одно столетие, и пока ей не видно конца. Хотя новая картина мира давно уже перестала быть достоянием узкого круга провидцев и сейчас стоит перед мысленным взором сотен миллионов, а то и миллиардов людей, она лишь потеснила старую картину мира, но не вытеснила ее. Наше время продолжает оставаться временем столкновения, полемики – когда мирной, а когда и не очень, – но в то же время и взаимодействия традиционной и современной картин мира, эпохой раскола, который проходит не только между странами и континентами, не только между различными политическими силами и партиями, но и внутри любого интеллектуального сообщества. И в каждом таком сообществе, и даже в сознании каждого отдельного человека присутствуют – в разных сочетаниях – элементы «традиционного» и «современного» сознания.
Детерминированный мир Фомы Аквинского
«Традиционное» сознание соответствует – со всеми возможными оговорками – «простому», слабо дифференцированному, «пирамидальному», четко упорядоченному иерархизированному миру прошлых эпох. В этом мире – как в земном, так и в отраженном небесном – царит «божественный порядок», он управляется демиургом в его различных ипостасях, но это всегда какая-то надындивидуальная сила, которая творит, сохраняет или охраняет мир «сверху», из какого-то «центра». Это мир Фомы Аквинского, автора „Summa Theologica“, которая описывает «справедливое общество, согласующееся со святым писанием и разумом… Общая концепция… гармонировала с целостным и иерархическим обществом, столь прекрасно созданным, что оно казалось естественным, части которого были взаимосвязаны и каждый член его занимал положенное ему место… Земной общественный мир во всех отношениях соответствовал великому небесному миру. Ангелы соответствующего ранга, подобно отдельным людям, занимали свое место и управляли звездными сферами… Эта система была… неизменна и долговечна, подчиняясь лишь воле Бога».
Традиционный мир – это хорошо детерминированный мир, и ему соответствует детерминизм как философская концепция, как мировоззрение и как идеал. Отсюда, в частности, идея построения общества, в котором покончено с частной собственностью, со стихийными силами рынка и вообще со всякой «анархией», все распределяется по единому плану и т. п. Подобные представления лежат в основе критики сущего ранними социалистами-утопистами: даже «божественного порядка» недостаточно, слишком многие и многое отклоняется от него, надо внести в мир еще больше порядка, и тогда все будет хорошо. Этот средневековый идеал унаследовал и марксизм, а через него и мы.
Относительно слабая расчлененность традиционной жизнедеятельности, отраженная в старой картине мира, предопределяет и синкретизм постигающего этот мир сознания. Я писал как-то, что традиционное «соборное сознание не стремится к пониманию внутренней сложности и противоречивости природного и социального мира, позволяет видеть мир только целостным, осмысливать только нерасчлененными блоками. Синкретический менталитет не допускает анализа, социальной самокритики, оценивать для него значит морализировать. Он требует веры, делает возможным истолкование всего сущего только в терминах добра и зла, истинных и неистинных ценностей и т. п.».
Такое сознание не отделяет познание от оценки, теорию от идеологии. Как полагал, например, Толстой, «законная цель наук есть познание истин, служащих к благу людей. Ложная цель есть оправдание обманов, вносящих зло в жизнь человеческую… И тут-то являются разные науки… и оказывается, что дурная жизнь людей не от них, а оттого, что таковы законы, и что дело людей не в том, чтобы перестать жить дурно… а только в том, чтобы живя по-прежнему, по своим слабостям думать, что все худое происходит не от них самих, а от тех законов, какие нашли и высказали ученые…». Толстой защищает, таким образом, морализирование как способ познания.
Вероятностный мир «невидимой руки» Адама Смита
Но времена меняются. Мир – во всяком случае, европейский – за несколько последних столетий пережил очень глубокие трансформации, прежние аграрные общества стали промышленными, сельские – городскими, простые – сложными, непосредственные отношения между людьми – опосредованными невидимым рынком. Для осмысления этого нового мира, намного более сложного и разнообразного, чем прежний, «разрешающей способности» взглядов, основанных на детерминистской картине мира, недостаточно. Потому и преодоление этой статичной (если смотреть на нее из нашего времени) картины, а вместе с тем и взрывообразное расширение «разрешающей способности» человеческого познания на определенном этапе исторического развития становится неизбежным. Начиная с какого-то момента синкретическое знание уступает место дифференцирующему анализу, способному постичь нарастающее внутреннее разнообразие социума.
Пример такого анализа – рассмотрение Адамом Смитом в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) небывалых перемен в английской экономике как результата разделения труда и свободы обмена товаров. «Эта книга, ставшая с тех пор, как ее впервые опубликовали, библией нового промышленного капитализма, является одним из великих синтетических общественных заветов, сравнимых с Summa Theologica Фомы Аквинского».
Прорыв Адама Смита – лишь небольшая часть мировоззренческой революции, охватившей все виды познания – как социального, так и естественнонаучного. Она привела к формированию новой картины мира, который уже не строится и не управляется «сверху» по какому-то замыслу, а растет «снизу», как лес или трава, складывается в ходе самоорганизации, рука которой «невидима». Результаты же такой самоорганизации не строго детерминированы, а в лучшем случае лишь предсказуемы с некоторой вероятностью.
Вот как писал об этом Норберт Винер: «Почти безраздельно господствовавшая с конца XVII до конца XIX в. ньютоновская физика описывала Вселенную, где все происходит точно в соответствии с законами; она описывала компактную, прочно устроенную Вселенную, где все будущее строго зависит от всего прошедшего… Теперь эта точка зрения не является больше господствующей в физике…». И далее: «Результатом этой революции явилось то, что теперь физика больше не претендует иметь дело с тем, что произойдет всегда, а только с тем, что произойдет с преобладающей степенью вероятности».
Не удивительно, что все эти огромные перемены – и в самой жизнедеятельности людей, и в их мировоззрении – требуют нового структурирования знаний о мире «разными науками» – потому они и «являются», вытесняя синкретический способ познания мира аналитическим. Описание, объяснение и морализирование, выступавшие прежде единым блоком, отделяются друг от друга, что понижает статус морализирования.
Но, разумеется, синкретизм и морализирование, будучи основательно потеснены анализом, отодвинуты на второй план как компоненты структуры социального знания, не исчезли вовсе. Это неизбежно хотя бы потому, что, как уже говорилось, и сами общества изменились еще не до конца, так что и объективно почти везде существуют основания для обеих картин мира – новой и старой. А на определенном этапе развития каждого общества происходит их столкновение, и тогда возможен временный реванш синкретизма и морализирования. Чистый реванш, конечно, невозможен, а вот компромисс возможен и почти всегда имеет место. Этот компромисс и выливается в пресловутую «научную идеологию» – с моей точки зрения, типичное contradictio in adjecto.
Компромисс проявляется в том, что аналитическое познание признаётся и даже одобряется, но перед ним ставится задача конструирования более совершенного мира, причем его априорное совершенство оценивается, исходя из не имманентных анализу моральных критериев. Такой взгляд на задачи социального знания укрепляется по мере того, как аналитическое знание вообще демонстрирует свою практическую применимость. Поэтому не удивительно появление в середине XIX в. знаменитого одиннадцатого «тезиса о Фейербахе» Маркса: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
Однако такая постановка задачи предполагает изначальное знание цели, к которой следует стремиться. А это – логика «ньютоновского» мира, заранее детерминированного непреложными законами причинности, а не «дарвиновского» мира, в котором результат есть следствие бесконечного количества проб и ошибок. Что бы мы сказали, если бы исследователю, наблюдающему эволюцию биологических видов на стадии земноводных, предложили запроектировать ее конечный результат? Мог ли он быть известен уже тогда, если исключить существование Творца?
«Конструктивистская» логика предполагает, что цель развития можно «научно» определить заранее, что есть «творец», это, по существу, религиозная идея, даже если она облечена в совершенно нерелигиозные формы. Ей противостоит идея самоорганизации, предполагающая, что целеполагание «встроено» в сам процесс развития.
Демографические процессы: управление извне или самоорганизация?
Если сказанное верно вообще, то это верно и в частном случае воздействия на демографические процессы. Поэтому споры о таком воздействии становятся полем столкновения «теории» и «идеологии». Более того, много лет участвуя в этих спорах, я постепенно прихожу к убеждению, что в них сталкиваются не столько разные взгляды на демографическую реальность, в частности, на настоящее и будущее рождаемости, сколько более общие мировоззренческие позиции, за которыми стоят разные картины мира: старая и новая.
Один из главных пунктов такого столкновения – вопрос о том, можно или нельзя воздействовать на прокреативное поведение людей с целью повышения рождаемости.
Этот вопрос, как отмечалось выше, волнует умы уже второе столетие. Выполняя «социальный заказ», созданный падением рождаемости, эксперты во всех странах выстраивают кажущуюся вполне естественной цепочку действий: обнаруживается «непорядок» (в данном случае – неудовлетворительный уровень рождаемости) – выясняются причины «непорядка» – предлагаются меры по их устранению.
Следуя далее по этой цепочке, исследователи ищут конкретные «факторы», которые вызывают падение рождаемости, что также кажется совершенно естественным. Вполне логично и не менее долгоживущее предположение, что устранение этих факторов или их видоизменение с помощью каких-то воздействий (демографической политики) может повлиять на уровень рождаемости, в частности, остановить его снижение, а может быть, и добиться его повышения. В рамках этой логики легко объяснимо, например, снижение рождаемости в России в 1990‑е годы, и кажутся обоснованными надежды на то, что, по мере преодоления кризисных явлений в экономической и социальной жизни, рождаемость будет снова повышаться.
Но главное звено цепочки – последнее, «конструктивистское». Надо всем господствует идея вмешательства с целью исправления «неправильной» эволюции, убежденность в том, что все можно изменить. «От воли людей зависит, чем закончится процесс разрушения системы ценностей и норм многодетной семьи. Тут два пути – предоставить все самотеку девальвации семейности или же приступить к абсолютно новой политике государства – к исторически беспрецедентной просемейной политике укрепления семьи с несколькими детьми».
И вся цепочка, и каждое ее звено кажутся вполне логичными, особенно в рамках той картины мира, которая предполагает наличие совмещенного центра целеполагания и управления (в приведенной цитате таким уполномоченным центром признано государство), способного контролировать любые социальные процессы. А надо всем, конечно, стоит «теорик», то бишь «идеолог», который лучше других («научно») знает и подсказывает власти, что «нужно» обществу и как избежать «самотека».
Однако не все, что логично, – верно, ибо то, что верно в рамках одной логики, может быть неверно в рамках другой. Вполне логично связывать движение паровоза с работой шатунно-кривошипного механизма, но можно ли объяснять с помощью этой логики функционирование систем, более сложных, чем паровоз? В частности, можно ли использовать ее для объяснения взаимодействия экономических и демографических процессов и предполагать, что изменения в экономике автоматически влекут за собой однозначные подвижки в демографическом поведении людей и его результатах? Иными словами, правомерно ли считать, что демографические процессы не обладают никакой автономностью, а их изменения представляют собой простую реакцию на внешние по отношению к ним экономические (социальные, политические и т. д.) возмущения?
В это трудно поверить. Демографические процессы относятся к основополагающим, фундаментальным для существования любого общества, они обеспечивают его физическое выживание. Само это предназначение требует достаточно высокой степени защищенности механизмов демографического воспроизводства от влияния экономической или политической конъюнктуры, и такая защищенность несомненно существует. На протяжении истории людям приходилось множество раз сталкиваться с экономическими и социальными потрясениями, куда более тяжелыми, чем российские реформы 1990‑х годов, порой такие потрясения резко нарушали нормальный ход воспроизводства населения, но они не разрушали главных демографических механизмов и не изменяли основных принципов демографического поведения. Эти принципы выработаны тысячелетним опытом, закодированы в культуре, в морали, в системе ценностей общества и обладают устойчивостью, которую не могут поколебать разного рода конъюнктурные колебания в условиях жизни, идет ли речь об их ухудшении или улучшении.
То же самое можно сказать и в несколько иной форме. Как вся социальная система, так и ее основные подсистемы, к числу которых относится и демографическая, будучи весьма сложными и обладая развитой и дифференцированной внутренней средой, обнаруживают характерную для всех сложных систем способность к гомеостазу, т. е. к сохранению существенных переменных в некоторых заданных пределах, даже если во внешней среде происходят довольно существенные возмущения. Конечно, такие возмущения не могут совершенно не влиять на внутреннее состояние подсистемы (в частности, скажем, экономический или социальный кризис не может совсем не воздействовать на демографическое поведение), но получение сигналов об изменении внешних условий приводит к возникновению в подсистеме отрицательных обратных связей, которые значительно ослабляют эффект внешних воздействий. А защищенность от внешних воздействий, пусть и относительная, предполагает наличие внутренних, «встроенных» механизмов целеполагания.
Это фундаментальное свойство сложных систем следует учитывать не только тем, кто стремится найти прямую зависимость между демографической динамикой и ухудшением экономической или политической конъюнктуры. Его должны принимать во внимание и те, кто надеется повлиять на эту динамику изменением внешних условий в лучшую сторону, например, с помощью мер пронаталистской демографической политики. Такие меры – тоже внешнее воздействие, от которого массовое демографическое поведение в принципе защищено.