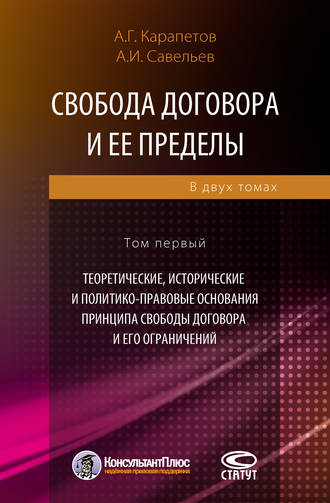
А. Г. Карапетов
Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений
Справедливость выражалась в аристотелевской идее баланса и соразмерности, а на более частном уровне – в принципах коммутативной справедливости цен и коррективной справедливости наказаний. Если коммутативная справедливость договорной цены определялась посредством учета рыночного уровня цен или цен, установленных государством, то коррективная справедливость неустойки должна была определяться соотношением с реальными негативными последствиями нарушения. Поэтому так же, как отрыв договорной цены от рыночного уровня оправдывал ограничение ценовой свободы, и значительное превышение размера неустойки над уровнем реальных убытков кредитора было поводом для ее снижения судом.
Эти примеры патерналистского усиления давления на принцип свободы договора в условиях средневекового права достаточно наглядно характеризуют доминировавшие в ту эпоху представления о политике права.
Тенденция патернализации договорного права была характерна и для средневекового английского права, хотя, судя по доступным источникам, и в меньшей степени.
C момента признания иска assumpsit применимым к договорным отношениям и формирования доктрины consideration в XVI–XVII вв. возник вопрос о возможности использования доктрины consideration для обеспечения контроля соразмерности обмениваемых благ. Тем не менее английские суды достаточно рано наметили впоследствии окончательно утвержденный в XVIII в. подход, при котором даже явная несоразмерность встречного предоставления сама по себе не должна рассматриваться как его отсутствие[206]. В то время как на континенте активно развивалась доктрина laesio enormis, английские суды в XVI–XVII вв. иногда высказывались в том духе, что суд не вправе вторгаться в сферу ценовой свободы даже тогда, когда встречное предоставление носит номинальный характер[207]. Суды общего права не считали себя компетентными оценивать справедливость сделки. Такого рода судебные решения выносились уже в 1580-е гг.[208] Как отмечает историк английского договорного права А. Симпсон, в судебной практике XV–XVII вв. нет ни одного примера применения английскими судами общего права доктрины справедливой цены[209]. Другой историк – Дэвид Иббетсон указывает на то, что информации о таких делах крайне мало, хотя и приводит один пример, датированный 1602 г.[210]
В такого рода исторических обобщениях конечно же следует быть осторожным в силу того, что соответствующие разрозненные исторические источники не всегда дают абсолютно точную картину. Например, профессор Патрик Атийя просто не верит в то, что суды XVI в. могли последовательно придерживаться либертарианской экономической идеологии и принципиально игнорировать проблему несправедливости договорных условий. Это, на его взгляд, просто не соответствовало идеологическим реалиям того времени. Он считает, что соответствующие решения английских судов XVII в., указывающие на иррелевантность размера встречного предоставления, следует интерпретировать более осторожно[211].
Как бы то ни было, думается, мы не ошибемся, если предположим, что интенсивность патерналистского контроля справедливости цен и соразмерности встречных предоставлений на континенте в условиях гегемонии доктрины laesio enormis была значительно выше, чем в Англии. Но из этого не следует делать вывод о том, что английское средневековое право не вводило ограничений свободы договора вовсе. Во-первых, такой контроль мог осуществляться в случаях, когда имелись те или иные пороки воли на стадии заключения договора (обман, мошенничество, принуждение и т. п.)[212]. Собственно говоря, многие эти доктрины в то время находились в стадии активного формирования. В частности, несоразмерность встречных предоставлений часто рассматривалась как один из признаков пороков воли и учитывалась судами в рамках применения такого рода доктрин. А особо вопиющая несправедливость условий часто рассматривалась как презюмирующая некий порок воли (например, обман). В итоге такого подхода суды формально аннулировали сделку в силу порока воли, а на самом деле ограничивали свободу договора в патерналистских целях[213].
Во-вторых, английское средневековое право знало и ряд специальных прецедентных и статутных ограничений свободы договора, направленных на защиту некоторых категорий контрагентов: в отношении процентных займов (вначале, как и везде в Европе, – тотальный запрет, затем – ограничения по размеру процентов), минимальной стоимости некоторых продуктов первой необходимости, максимальной оплаты труда (в период его дефицита, вызванного эпидемией чумы) и т. п.[214]
Наконец, в-третьих, в Англии наступление судебного патернализма на свободу договора в ряде случаев осуществляли суды справедливости (courts of equity) и формируемое ими право справедливости (law of equity), основная функция которого состояла в предоставлении суду возможности избежать явной несправедливости, к которой иногда приводил формализм судов общего права (common law courts). Если английское общее право было слабо подвержено влиянию канонического права, то ситуация с правом справедливости была несколько иной. Большинство лордов-канцлеров, занимавших этот пост до начала XVI в., были священниками. В этих условиях многие идеи, вводимые судами справедливости, косвенно имплементировали в английском праве идеи отцов церкви и христианскую этику (в том числе ценности милосердия и солидарности)[215].
Праву справедливости не удалось сформировать некую обширную доктрину ограничения свободы договора или значительное количество таких запретов, но именно в период позднего Средневековья некоторые такие точечные ограничения были все же введены.
Так, например, крайне популярный в средневековом праве институт неустойки (penal bond) был правом справедливости в XVI–XVII вв. ограничен: под запрет попали неустойки, направленные на стимулирование должника к исполнению договора и введенные in terrorem (т. е. для устрашения должника)[216].
В XVII в. в праве справедливости начинает формироваться доктрина недолжного влияния (undue influence), согласно которой суд справедливости получил право ограничить свободу договора тогда, когда он был заключен на крайне несправедливых условиях благодаря злонамеренной эксплуатации одной из сторон своей возможности оказывать влияние на поведение и волю другой, слабой стороны (в силу доверительных или семейных отношений, фидуциарной договорной связи, личной зависимости, болезненного состояния, старости и иных подобных причин)[217].
Кроме того, в ряде случаев суды справедливости, которые были компетентны рассматривать споры о присуждении к исполнению обязательства в натуре, отказывали в таком иске при очевидной несоразмерности встречных предоставлений. Это, как правило, не исключало право кредитора обратиться в суд общего права и требовать взыскания убытков, но оказывало определенное косвенное влияние на сферу договорной свободы[218].
Иначе говоря, степень рыночной ориентации английского договорного права в эпоху позднего Средневековья была как минимум выше, чем права континентально-европейского. Английское договорное право, как, впрочем, и вся английская культура, оказалось намного раньше проникнуто капиталистическим духом и было куда более созвучно коммерческим интересам и рыночным институтам, чем право и культура многих континентальных обществ. Как известно, этот культурный фактор оказал важнейшее влияние на дальнейший ранний взлет английского капитализма и первую в мире промышленную революцию. В то же время, как мы видели, и английское право в эпоху Средневековья испытывало сильнейшее давление со стороны идеологии коллективизма, справедливости и милосердия и было готово, хотя и менее интенсивно, все же вводить патерналистские ограничения свободы договора.
Некоторые итоги
Подводя некоторые итоги, можно отметить, что в период Средневековья продолжалось дальнейшее развитие принципа свободы договора в смысле права сторон заключать любые консенсуальные соглашения, как прямо указанные в законе, так и отсутствующие в нем. Произошла концептуализация универсальной идеи договора как соглашения сторон, порождающего обязательства сторон в силу соединения воль, и формировались условия для дальнейшей абсолютизации автономии воли сторон и «волевой теории» договорных отношений. Но эта тенденция сочеталась с тем, что в тот же самый период свобода определения содержания отдельных договорных условий значительно сужалась, подпадая под всевозможные этически обусловленные, а порой и просто произвольные ограничения. Большое влияние церкви и доминирование христианской морали обусловливали рост патернализма в регулировании договорных отношений, который сильно контрастировал с индивидуалистическими началами, характерными для классического римского права[219].
Глава 2. Эпоха laissez-faire
§ 1. Экономические предпосылки
Общие замечания
Описанная выше общая социально-экономическая ситуация и состояние культуры и доминирующей этики в передовых западных странах начали меняться по мере перехода к капиталистической экономической формации. Европа к концу XVIII в. неуклонно вступала в эпоху капитализма.
Некоторые европейские торговые центры оказались поглощенными капиталистическим экономическим «духом» еще в Средние века. Но капитализм этих городов-государств (Венеция, Генуя и некоторые другие) тогда носил сугубо торговый характер и выражался в основном в обеспечении международной торговли. Рынок не был укоренен в производственном сегменте экономик этих маленьких капиталистических анклавов. В остальных же европейских странах рыночный формат экономических отношений долгое время не выходил на первые роли. Как пишет Кристан Лаваль, «капитализм как цельная, доминирующая и глобальная система сложился позднее, а вот индидуальный капиталист существует и проявляет активность уже в Средние века»[220].
Развитие капиталистических отношений интенсифицировалось в позднем Средневековье. Жесткая цеховая система в городах начала разлагаться в XIV–XVI вв.[221] Возникающие в разных уголках Европы мануфактуры не подчинялись цеховым ограничениям и быстро вытесняли ремесленное производство за счет большей эффективности и экономии на масштабе. На селе же начался процесс постепенного освобожднения зависимых крестьян, получавших все бо́льшую свободу в своих договорных отношениях с феодалом. Отношения между феодалами и крестьянами все меньше напоминали отношения хозяина и раба, в которых не было места для договорной свободы, и все больше походили на договорные отношения лично свободных арендодателя и арендатора. В области финансов и торговли религиозные догматы, с подозрением относящиеся к спекуляции и протестующие против взимания процентов, постепенно ослабевали, что влекло снятие ряда ограничений ценовой свободы и открывало каналы для интенсификации рыночных отношений. Постепенно начали отменяться некоторые щедро раздаваемые средневековыми монархами монопольные права[222], что усиливало конкуренцию и экономическую свободу. Огромный объем экономического оборота, ранее существовавшего долгое время вне договорных рамок, постепенно перетекал в формат свободного договорного обмена.
Тем не менее полноценный подъем капитализма и рывок его промышленной составляющей в масштабах крупных европейских держав начались именно в XVIII в. В Англии все новые и новые мануфактуры начали поглощать труд постепенно вытесняемых со своих земель крестьян и наполнять своей продукцией весь цивилизованный мир. Все более интенсивные торговля и промышленные проекты требовали аккумуляции все более значительных коллективных инвестиций. Формировался достаточно могущественный слой коммерчески ориентированной элиты (в том числе так называемое обуржуазненное дворянство мантии), который постепенно стал вырывать реальную политическую власть из рук нищающего старого «дворянства шпаги», не желавшего расставаться с феодальными стереотипами и предубеждениями против коммерции.
Голландия многими исследователями характеризуется как первая крупная страна, вставшая на путь современного капиталистического развития. Уже в XVII в. протестантские Соединенные провинции были охвачены «капиталистическим духом» и являли собой образец для капиталистических революций и реформ для других европейских стран[223]. Но капиталистический успех Голландии был основан в первую очередь на могуществе ее торгового флота и торговом посредничестве. Голландский капитализм был в значительной степени продолжением того сугубо торгового капиталистического развития, которое наблюдалось в свое время в Римской империи и итальянских торговых центрах Средневековья.
В XVIII в. к Голландии присоединилась Англия, также успешно начавшая капиталистическую трансформацию и к середине XVIII в. превратившаяся в полноценного мирового экономического и военно-политического гегемона (после последовательного устранения конкурентов в лице Испании, Франции и Голландии в результате ряда военных столкновений в XVI–XVII вв.). К концу Средневековья английская культура и социальная структура в силу ряда причин (среди которых и кальвинистская трудовая этика, и ориентация на морскую торговлю, и ослабление влияния классических дворян крови благодаря кровопролитным гражданским войнам, и ряд иных причин) оказались крайне благосклонны к предпринимательской деятельности, которая во многих континентальных странах того времени рассматривалась как недостойное занятие. Это способствовало быстрому укоренению коммерческого духа и стимулировало предпринимательскую активность, а также экономические и технологические инновации[224].
Именно Англия, опираясь на деловую активность своего крайне предприимчивого населения, военно-морскую мощь, колониальные ресурсы и рынки сбыта, одна из первых начала трансформацию капитализма из сугубо торгово-посреднического в индустриальный, обеспечив перетекание капитала, производственных и трудовых ресурсов в сферу промышленного производства и создав необходимые условия для долгосрочных инвестиций и инноваций. Первая в мире промышленная революция[225] обеспечила выход английской рыночной экономики на принципиально новый уровень.
Впоследствии рыночная трансформация и индустриализация несколькими волнами поглощали все новые и новые европейские страны (Бельгия, а затем Франция, Швеция, Германия, Швейцария и т. д.), революционно или эволюционно разрушая в этих странах ancien régime, и в конечном счете перенеслись в некоторые бывшие колонии (в первую очередь в США, другие бывшие колонии Великобритании, а затем в Японию). Так для ведущих мировых экономик сформировалась продолжающаяся (с некоторыми существенными изменениями и страновыми различиями) до сих пор эпоха, которую Саймон Кузнец назвал эпохой современного экономического роста[226].
Из каких же элементов состояла эта постепенно развивающаяся система экономической конкуренции, промышленного развития и рыночного обмена? Упрощая картину, можно зафиксировать четыре основные предпосылки успешного развития рыночной экономики европейских государств Нового времени.
Во-первых, торжество личной свободы участников оборота. Стремительный экономический рост невозможен в условиях, когда участники рыночных отношений не являются свободными. В определенные периоды и в определенных масштабах использование рабского или крепостного труда могло обеспечивать экономическое развитие. Но под воздействием этических, культурных, религиозных и экономических соображений этот ресурс оказался заблокирован или дискредитирован, уступая более эффективной и этически приемлемой системе организации экономического взаимодействия свободных граждан. В конечном счете рабский труд оказался менее эффективным по сравнению с трудом свободных граждан, имеющих стимулы к росту производительности. Эксплуатация труда несвободных людей могла быть эффективной, но до определенного предела. Не разрушив крепостное право и сельскую общину, ограничивающих экономическую свободу своих членов, и не отменив рабство, России и соответственно США было бы сложно обеспечить урбанизацию, насытить рынок труда дешевой рабочей силой, направить последнюю в промышленную сферу экономики, которая в то время могла обеспечить максимально эффективное ее приложение, и в конечном счете шагнуть в индустриальную эру.
Только свободный человек способен на активное предпринимательство и инновации, и только свободный человек, являющийся хозяином результатов своего труда, способен стремиться к их максимизации и наиболее выгодному обмену. Поэтому важный процесс, без которого капиталистическая трансформация была бы невозможна, это процесс освобождения основной массы граждан от феодальной, общинной и иной личной зависимости в большинстве европейских государств.
Во-вторых, особое значение для развития рыночной экономики имело и имеет такое проявление личной свободы, как свобода выбора сферы приложения своей производственной деятельности. Чем сильнее профессиональная мобильность населения, тем больше шансов на то, что каждый будет заниматься именно тем, к чему у него имеются наибольшие природные способности и что вызывает у него личный энтузиазм. В Средние века эта свобода всячески ущемлялась феодальными, сословными, кастовыми, цеховыми и иными ограничениями. Человек, имеющий прекрасные предпринимательские навыки, но рожденный в среде дворян, имел мало шансов применить свои способности в сфере торговли или банковского дела. Равным образом потенциально прекрасный мастер не мог свободно посвятить себя тому или иному промыслу, не войдя в соответствующий цех и не проработав долгое время в учениках другого мастера. Так, Михаилу Ломоносову пришлось проявить настоящие чудеса смекалки и поймать немалую долю удачи, чтобы вырваться из тяжелых сословных ограничений и проявить свой талант на благо российской науки. Все эти искусственные, но столь характерные для феодализма профессиональные и сословные барьеры крайне ограничивали возможности свободного экономического обмена.
Процесс разрушения этих барьеров начался еще в период позднего Средневековья, что играло важную роль в медленном, но верном увеличении экономической эффективности и росте производительности труда. Окончательное разрушение сословных, цеховых и многих иных профессиональных и социальных барьеров и табу в ряде европейских стран в XVIII–XIX вв. создало крайне благоприятные условия для промышленной революции и бурного экономического роста, а изначальное отсутствие подобных барьеров (не считая расовых) в США сыграло важную роль в экономическом чуде, которое в рекордные сроки поставило Штаты вровень с наиболее развитыми экономическими странами мира.
В-третьих, безусловно, неотъемлемым условием формирования рыночного хозяйства является свобода частной собственности. Если бы средства производства и результаты экономической деятельности в виде земли, иных средств производства, товарных излишков и денег не находились в полном и абсолютном господстве соответствующего участника оборота и не было бы гарантий от их силовой экспроприации, то значительно снижались бы стимулы к инвестициям в производство экономических благ и накоплению капитала. Поэтому во все времена те общества, которые обеспечивали лучшие гарантии прав частной собственности, и те правители, которые ограничивали себя в желании отобрать имущество у своих более удачливых и успешных подданных, в долгосрочной перспективе получали больший размер общего экономического «пирога» и более стабильную экономическую базу для успешного развития. Без частной собственности никогда не будет устойчивого и динамичного экономического развития[227].
В последнее время вышел целый ряд исследований, демонстрирующих центральную роль защищенности и четкого оформления прав частной собственности в экономическом развитии[228]. И этот вопрос сейчас мало у кого вызывает сколько-нибудь серьезные сомнения. Следует признать, что без гарантированности частной собственности все личные свободы, включая свободу заключения договоров, теряют свое реальное значение[229].
В-четвертых, свобода осуществления экономического обмена. Для того чтобы рыночная система работала эффективно, количество искусственных ограничений обмена экономическими благами должно стремиться к минимуму. Чем свободнее условия обмена, тем проще те или иные экономические блага циркулируют в обороте и тем выше эффективность обмена. В обществах свободных людей, где обеспечивается свобода профессиональной деятельности и защищаются права частной собственности, но при этом сильно ограничивается свобода экономического обмена, процветания ожидать очень сложно. Более того, сама идея частной собственности во многом профанируется, если собственник лишается права распоряжаться своей собственностью по собственному разумению.
Идея свободы договора является юридическим проявлением именно этого последнего условия успешного функционирования рыночной экономики. Как справедливо отмечал Саватье, «свобода обмена означает свободу договора»[230]. Свобода договора отражает в праве идею о децентрализации принятия экономических решений, лежащую в основе рыночной экономики[231]. Экономическая свобода находить пути сбыта результатов своего труда и распоряжаться собственностью проявляется в первую очередь в праве заключать договор с любым контрагентом по своему усмотрению. Экономическая свобода определять параметры обменных операций проявляется в свободе выбора типа договора, заключения непоименованных и смешанных договоров, а также в праве определять предмет, цену и иные условия договора по своему усмотрению.
Идея свободы договора набирала силу пропорционально тому, как укреплялось понимание важности обеспечения свободы экономического оборота. Утверждение в европейских странах полноценных рыночных экономик неминуемо приводило к формированию тех или иных форм «волевой теории» контракта, примата автономии частной воли и свободы договора.
Эти коренные изменения в области производственных и торговых отношений приводили к формированию запроса на экономическую экспертизу и правовое регулирование, которые должны были создать максимально комфортные условия для функционирования набирающей мощь рыночной экономики. Постепенно укрепляющая свои позиции буржуазная элита и часть встроившейся в капиталистический мир аристократии получили (вследствие буржуазных революций или в результате естественного политического процесса) контроль над законотворческой программой правительств. Это не преминуло сказаться и на реальной экономической политике, на развитии гражданского права и на правовом отражении принципа свободы договора.
Интеллектуальная, деловая и бюрократическая элиты ведущих европейских стран в период коммерциализации экономического оборота и начала капиталистического перехода кардинально отличались от горстки грамотных монахов, всюду гонимых ростовщиков, пребывающих в вечном страхе экспроприации торговцев и низкопрофессиональных чиновников времен Крестовых походов. Новая структура элиты, так или иначе вбиравшая в себя буржуазный социальный элемент, была готова к восприятию новой экономической и правовой парадигмы, которая могла бы легитимировать складывающуюся гегемонию интересов прорыночных сил. В этих условиях принцип свободы договора, который в прежние эпохи не претендовал на сколько-нибудь важную роль, да и попросту был не отрефлексирован как некий универсальный концепт, постепенно становился центральным звеном системы гражданского права.
Этот процесс выделения принципа свободы договора, как мы видели, шел в течение всего Средневековья. Постепенно идея свободы договора кристаллизировалась глоссаторами и постглоссаторами на основе интерпретации римских источников, подкреплялась идеями канонической традиции права и концептуализировалась в рамках естественно-правовых исследований. Но для того, чтобы эта идея взошла на пьедестал центральных принципов частного права Нового времени и получила широкую поддержку правительств европейских государств, не хватало четкого понимания ее политико-правовых преимуществ и в первую очередь ее роли в развитии новой экономики.
Эта задача начала решаться только в XVIII в. Отсутствие концентрированной и систематизированной экономической научной мысли вплоть до второй половины XVIII в. мешало осознанию реальных причин успешного функционирования экономики и принципа свободы экономического оборота в частности. Экономические воззрения испанских поздних схоластов иногда были достаточно точны, но, как правило, не оформлялись в некую систему экономических знаний и так и не сформировали отдельный научный домен экономической мысли.
Кроме того, для реализации здравых теоретических экономических идей представителей испанской саламанкской школы была необходима политическая надстройка, способная соответствующие меры последовательно проводить в жизнь. В то же время испанское государство, чье военно-политическое могущество за счет заморских открытий в начале XVI в. достигло своего зенита, в реальности управлялось из рук вон плохо и страдало от фатального отсутствия внятной долгосрочной экономической политики (изгнание евреев и мусульман, неумелое управление внешней задолженностью, неспособность обратить небывалый приток заморского золота в развитие производства внутри страны и т. п.) и уже во второй половине XVI в. перешло в режим стагнации, а затем экономического и политического упадка[232]. Есть основания считать, что в обществе, управляемом сугубо абсолютистским, истово католическим и феодальным политическим режимом, последовательная реализация идеалов laissez-faire и в целом продуманной капиталистической регулятивной стратегии, некоторые элементы которой действительно проступали в экономических воззрениях поздних схоластов, была попросту заблокирована. На мудрые экономические воззрения не предъявлялся реальный спрос со стороны тех, кто имел возможность эти идеи реализовать.
Для реализации рыночно ориентированной регулятивной политики был необходим приход к политической власти тех сил, которые отстаивали интересы буржуазных кругов. Такие политические условия в Новое время сложились прежде всего в Голландии и впоследствии в Англии после соответствующих буржуазных революций.
Католическая и философская основы многих работ испанских схоластов и теологов затрудняли восприятие этих идей политическими элитами тех протестантских стран, которые в силу ряда причин оказались в XVII–XIX вв. в авангарде рыночной трансформации. Прозрения испанских католических теологов и схоластов были, видимо, крайне далеки от того, что читали политики в протестантской Англии, видевшие в католической Испании основного политического противника, и Голландии, только что сбросившей гнет испанской короны и инквизиции в результате кровопролитной национально-освободительной войны.
В силу этих и ряда иных причин к XVIII в. основы экономической теории в этих протестантских странах, вступивших на путь капиталистической экономики, представляли собой в большей степени «рассеянное знание», недостаточно структурированное и доступное, чтобы превратиться в некую идеологическую основу для последовательной прорыночной экономической политики этих стран. В этой связи огромную роль в формировании целостного представления о важности, сути и экономической роли принципа свободы договора сыграло возникновение в ряде наиболее развитых стран второй половины XVIII в. нового домена научной мысли – политической экономии (экономической теории).
К концу XVIII столетия широкие круги интеллектуальной и политической элиты стран, наиболее продвинувшихся в капиталистическом отношении, начали наконец систематизировать и осознавать общий комплекс закономерностей рыночного экономического развития, а также признавать роль позитивного права как неотъемлемого элемента обеспечения благоприятной для этого институциональной среды. Это в свою очередь ускорило осознание законодателями, судьями и иными представителями властной элиты политико-правовой важности идеи свободы договора и слом неоправданных барьеров, мешающих функционированию свободного экономического оборота. В результате тенденции по кристаллизации принципа свободы договора, намеченные в рамках сугубо догматического научного дискурса Средневековья, получили широкую политическую легитимацию и усиление.
Таким образом, когда в наиболее развитых странах Западной Европы и США к концу XVIII в. пришли к доминированию идеологии laissez-faire, взывающей к последовательному отказу государства от активного ограничения свободного экономического оборота[233], окончательно созрели условия для возведения принципа свободы договора в ранг абсолютно приоритетных начал гражданского права.
Возникновение экономической теории
Первые систематические атаки против ограничения экономической свободы и свободы частных коммерческих сделок начались еще в конце XVII – начале XVIII в. В 1730-е гг. Ричард Кантильон, успешный банкир с испано-ирландскими корнями, живший то в Лондоне, то в Париже, написал книгу, которая некоторыми расценивается как первый систематизированный трактат по экономической теории рыночной экономики, – «Очерк об общей природе торговли». В ней он одним из первых детально охарактеризовал рыночную экономику как самоорганизующуюся систему, которая балансирует спрос и предложение без участия государства[234]. Эта книга так и не была опубликована при жизни автора, что, правда, не помешало ей оказать серьезное влияние на развитие экономической мысли и воззрения как французских, так и английских экономистов.
В конце XVII – начале XVIII в. многие другие французские купцы и интеллектуалы пытались сопротивляться повсеместным ограничениям контрактной свободы, выдвигая все новые и новые аргументы в поддержку тезиса о необходимости проведения политики laissez-faire и устранения государства от непосредственного и неусыпного контроля над экономическим оборотом. Среди них звучал и позднее популяризированный Адамом Смитом тезис о том, что общественное благо реализуется путем стремления каждого конкретного индивида к личному успеху[235].
Идея laissez-faire была одной из центральных тем французских физиократов XVIII в. (Ф. Кенэ и его последователей), сформировавших, пожалуй, одну из первых полноценных экономических школ.
Данная идея разделялась известным французским экономистом и последователем многих идей физиократов А.Р.Ж. Тюрго. Тюрго в 1750– 1760-е гг., за два десятилетия до выхода основной работы Смита, активно выступал против государственных мер по ограничению цен, защищал рыночную свободу и конкуренцию как механизмы балансирования спроса и предложения[236]. Он достаточно убедительно пытался продемонстрировать пагубность государственного патернализма в отношении экономического оборота и сферы контрактных отношений. Для Тюрго свобода договора была центральным механизмом обеспечения экономической жизни, и поэтому государство должно было воздерживаться от ее ограничения. Он писал, что в некоторых случаях невмешательство государства позволит мошеннику обмануть неопытного в делах контрагента. Но Тюрго считал этот побочный эффект приемлемым: в следующий раз обманутый контрагент будет осторожнее и умнее. В любом случае практика злоупотреблений, на его взгляд, не может быть сильно распространена, так как коммерсанты вынуждены заботиться о своей репутации. Государственный же патернализм, основанный на желании предотвратить обман и злоупотребления при заключении договоров, по мнению Тюрго, создает больше проблем, чем решает: во имя защиты отдельных «праздных людей», не желающих быть внимательными в своих делах, он сдерживает развитие экономической динамики, усиливает роль бюрократов и коррупцию, а также возлагает на общество налоговое бремя по содержанию этого аппарата. Как отмечал Тюрго, «предполагая, что все потребители простофили, а все торговцы и фабриканты – мошенники, мы разрешаем им быть таковыми и унижаем всю работающую часть нации»[237].




