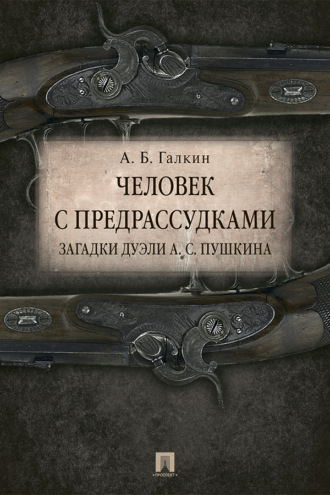
А. Б. Галкин
Человек с предрассудками. Загадки дуэли А. С. Пушкина
Чтобы закончить затянувшийся сюжет об авторах диплома и гипотезах исследователей на сей счет, рассмотрим еще три версии. (Версию академика Петракова о сочиненном Пушкиным и отправленном самому себе пасквиле бессмысленно даже разбирать.) Одна принадлежит итальянской исследовательнице Серене Витале, работавшей с архивом Геккерна-Дантеса и опубликовавшей письма Дантеса к барону Геккерну. На основе этих писем она написала книгу «Пуговица Пушкина» (название иллюстрирует анекдотический отзыв современника, заметившего у Пушкина пуговицу, висящую на ниточке, и сделавшего вывод, что жена не заботится о поэте).
Итак, Витале публикует любопытное письмо Дантеса Геккерну от 1 сентября 1835 года, в котором он повествует о некоей Супруге: «Бедная моя Супруга в сильнейшем отчаянье, несчастная несколько дней назад потеряла одного ребенка, и ей еще грозит потеря второго; для матери это поистине ужасно, я же, при самых лучших намерениях, не смогу заменить их. Это доказано опытом всего прошлого года»[55].
В главе «Подозреваемые» Витале перечисляет громадное число возможных авторов диплома, врагов Пушкина: здесь и министр просвещения, президент Российской Академии наук граф С. С. Уваров, которого Пушкин ядовито изобразил в сатире «На выздоровление Лукулла»[56], и графиня Нессельроде, и князь Долгоруков, и даже Фаддей Булгарин, и безвестный Дмитрий Карлович Нессельроде, сын вице-канцлера и министр иностранных дел, – исключительно потому, что о нем мы знаем мало, только то, что он был «неумен, чванлив и плохо воспитан» и, по мнению императора, «носил слишком длинные волосы», а также что однажды он одолжил поэту экземпляр «Анджело» Дюма-сына[57].
По-видимому, Витале достаточно безразлично, кто на самом деле был автором диплома, поэтому она на тех же основаниях (все равно не узнать!) пишет и о Супруге Дантеса: «И если мы должны вести свои поиски среди врагов, то почему бы и не среди врагов Дантеса? Их было немного, это правда, кавалергард умел заставить себя любить. Но кое-какие дамы могли питать к нему злобу: например, “Супруга”, которую он бросил поздней осенью 1835 года, и еще некоторые, которым он разбил сердце. У женщины мог быть мотив: ревность. И цель: навредить Дантесу и новому предмету его страсти»[58]. Витале добавляет, что Пушкин в разговоре с Соллогубом 4 ноября (см. выше) мог подозревать именно эту женщину – мифическую «Супругу».
Совершенно фантастическое предположение Витале! Оказывается, Пушкин так пристально наблюдал за Дантесом, что был наслышан о всех его любовных связях и следил за сменой возлюбленных. Кто эта Супруга? Белошвейка? Мещанка? Горничная? Или дворянка высшего круга (что маловероятно, иначе бы свет знал об этой связи). Может быть, она чиновница? Вдова? Замужняя дама? Ничего неизвестно.
И как эта его Супруга могла рассчитать круг адресатов письма – «тесный карамзинский кружок», по словам Вл. Соллогуба[59]? К тому же ей необходимо было знать об амбициях Пушкина стать придворным историографом и о его желании заменить на этом посту умершего Н. М. Карамзина. Такая осведомленность настолько же невероятна, насколько сомнительна осведомленность москвича А. Н. Раевского о петербургском круге общения Пушкина.
Какую женщину Пушкин подозревал в разговоре с Вл. Соллогубом, можно только гадать. Это могла быть графиня М. Д. Нессельроде, давний враг Пушкина. Она ненавидела поэта из-за его эпиграммы на ее отца, бывшего министра финансов и автора рецепта гурьевской каши Д. А. Гурьева («Встарь Голицын мудрость весил, Гурьев грабил весь народ…»). Кстати, царь Александр II, согласно рассказу князя А. М. Голицына, в Зимнем дворце среди ограниченного круга лиц говорил за столом: «Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиною смерти Пушкина; это Нессельроде»[60].
Этой женщиной могла быть Идалия Полетика, незаконнорожденная дочь графа Г. А. Строганова и Ю. П. Строгановой, урожденной д’Эга. С. Ласкин в книге «Вокруг дуэли» пишет о родителях Идалии: «Отец Идалии граф Строганов был блестящий человек, светский волокита, пользовавшийся колоссальным успехом у женщин. Его считали прообразом Дон-Жуана Байрона. Будучи послом в Испании, Строганов влюбился в португальскую графиню д’Эга, жену камергера королевы Марии I. Графиня оставила мужа и вместе с возлюбленным уехала в Россию. В 1826 году, после смерти жены Строганова, им удалось обвенчаться. Дочь Идалия – редкостное для нас имя! – родилась задолго до брака.
Как известно, граф Григорий Александрович Строганов был двоюродным братом Натальи Ивановны Гончаровой, матери Натальи Николаевны. Таким образом, Наталья, Александра и Екатерина приходились Идалии троюродными сестрами»[61]. Идалия Полетика чувствовала себя ущемленной, занимая в свете двусмысленное положение «воспитанницы» графа Строганова. Она была женой штаб-ротмистра А. М. Полетики, кавалергарда и приятеля Дантеса по полку. С. Ласкин доказывает, что Идалия была любовницей Дантеса. В письме к Екатерине Дантес, урожденной Гончаровой, от 3 октября 1837 года она передает привет Дантесу с необычайной нежностью: «Скажите от меня Вашему мужу все самые ласковые слова, какие придут вам в голову, и даже поцелуйте его, – если у него еще осталось ко мне немного нежных чувств». В письме от 8 октября 1841 года Идалия пишет: «Передайте тысячи добрых слов барону и поцелуйте за меня Вашего мужа. На этом расстоянии Вы не можете ревновать, не правда ли, мой друг?»[62]
Во время тюремного заключения Дантеса по поводу дуэли с Пушкиным Идалия пишет Дантесу записку, будто бы ее сердце «кровоточит».[63]. Когда Дантеса внезапно высылают из России и ей не удается с ним попрощаться, она рыдает как безумная. Дантес, уезжая, не забывает оставить ей подарок (наверно, браслет), за который она с пронзительной нежностью благодарит его в письме: «Вы по-прежнему обладаете способностью заставлять меня плакать, но на этот раз это слезы благотворные, ибо Ваш подарок на память меня как нельзя больше растрогал и я не сниму его больше с руки; однако таким образом я рискую поддержать в Вас мысль, что после Вашего отъезда я позабуду о Вашем существовании, но это доказывает, что вы плохо меня знаете, ибо если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда»[64]. Это письмо очень похоже на ностальгическое любовное объяснение. Между нею и Дантесом даже после его выезда за границу остается нечто, что связывает только их. Идалия в письмах к Екатерине позволяет себе высказывать странные, полусексуальные, двусмысленные намеки, которые до конца может понять один Дантес (она постоянно призывает его в свидетели): «Александрина (Гончарова, сестра Екатерины и Натальи Николаевны. – А. Г.) невероятно потолстела с тех пор, как <…> Спросите у своего мужа… что я имею в виду, – он поймет меня». (Вероятно, имеется в виду возможная беременность Александрины, хотя это явный поклеп. – А. Г.) «Ей (госпоже Соланской. – А. Г.) по-прежнему нравится нос в форме английского сада (подчеркнуто Полетикой). Что это значит, спросите у своего мужа»[65].
Вместе с тем Идалия Полетика до конца жизни испытывала какую-то необъяснимую ненависть к Пушкину. Престарелая Полетика через 51 год после смерти Пушкина, проживая вместе с братом в Одессе, по словам П. Н. Бартенева, намерена была плюнуть на памятник Пушкина, воздвигаемый в Одессе в 1881 году. Тетка Натальи Николаевны Екатерина Загряжская, как рассказывает сама Идалия в письме к Екатерине Дантес-Геккерн, скрежещет зубами, когда ей нужно поздороваться с Идалией. Сама Наталья Николаевна после приезда в Петербург в 1839 году из Полотняного Завода не ездила в дом к Идалии и не вспоминала о прошлом, хотя до преддуэльной истории Пушкина они были близкими приятельницами. Да и Пушкин в письме из Болдино 30 октября 1833 года шутливо-ласково пишет жене: «Политике скажи, что за ее поцалуем явлюсь лично, а что-де по почте не принимают»[66].
По всей вероятности, Идалия была женщина, что называется, общедоступная. Вокруг нее все время толклись офицеры-кавалергарды, сослуживцы мужа. Квартира, где они с мужем жили, находилась на территории казарм. И даже Гринвальд, командир кавалергардского полка, судя по всему, высказал что-то откровенно оскорбительное по адресу Идалии, возможно соленую шутку в грубовато-солдатском духе. Пушкин писал жене из Москвы 6 мая 1836 года: «Что Москва говорит о Петербурге, так это умора. Например: есть у Вас некто Савельев, кавалергард, прекрасный молодой человек, влюблен он в Idalie Политику и дал за нее пощечину Гринвальду. Савельев на днях будет расстрелян. Вообрази, как жалка Idalie!»[67] Что было на самом деле, выяснил С. Ласкин: «Влюбленный в Идалию кавалергардский поручик Петр Яковлевич Савельев, вспыльчивый, искренний человек, взбешенный шуткой генерала Гринвальда, командира кавалергардского полка, неуважительно отозвавшегося об Идалии Полетике, накинул генералу на шею “снурок от пистолета” и… затянул его <…>
Расстрелян Савельев не был, его перевели в армию и сослали на Кавказ, однако пятно скандала лежало на Полетике»[68].
Предположения Бартенева и Щеголева о том, будто бы Пушкин где-то в карете по дороге на бал отверг любовные приставания Идалии или, наоборот, вел себя при жене слишком вольно, трогая Идалию за колено, что и вызвало ненависть Идалии к Пушкину, вряд ли имеют серьезные основания. Скорее всего, и здесь вполне можно согласиться с мнением С. Абрамович, Идалия Полетика была замешана в преддуэльную историю и являлась участницей интриги Геккерна-Дантеса.
П. Н. Бартенев записал рассказ В. Ф. Вяземской, как на квартире Полетики произошло подстроенное Идалией свидание Дантеса с Натальей Николаевной Пушкиной: «Мадам N по настоянию Геккерна (Дантеса. – А. Г.) пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней»[69].
Этот рассказ подтверждает письмо барона Фризенгофа, мужа Александрины Гончаровой, которая тоже, без сомнения, знала об этом событии со слов сестры: «…ваша мать (Фризенгоф пишет дочери Натальи Николаевны от второго брака с Ланским А. П. Араповой. – А. Г.) получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда они прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колена, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала»[70]. Вяземская говорила, что Наталья Николаевна приехала к ней «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса»[71].
Рассказ Фризенгофа кажется более достоверным. Когда читаешь версию Вяземской, то представляется достаточно взрослая дочь Идалии, ну хотя бы десятилетняя, а то и 12–13-летняя. К ней-то за защитой и бросается Наталья Николаевна. С. Ласкин выяснил возраст дочери Идалии: ей 2 года. Сцена сразу теряет какой бы то ни было смысл. Дантес бросается на колени, приставляет к виску пистолет. Наталья Николаевна стонет, заламывает руки. Все это очень напоминает немой фильм о любви начала нашего века. Тут появляется двухлетний ребенок: приковылял на тоненьких (или пухлых) ножках в платьице с оборками. Девочка заинтересовалась, откуда шум, и прибежала. По логике вещей за ней должна примчаться няня. Не отпустит же она двухлетнего ребенка без присмотра, если мать куда-то внезапно уехала. Не очень верится, что за поддержкой можно броситься к двухлетнему ребенку. Девочка бы явно испугалась дяди и тети в напряженных позах, да к тому же дядя с пистолетом у виска.
Иными словами, мы знаем эту историю из третьих рук. Причем рассказчики передавали то, что услышали от самой Натальи Николаевны. Очень похоже, что какие-то моменты она сама сгладила, какие-то заострила, и какая-то маленькая ложь в самом рассказе проскользнула. По крайней мере, не могло свидание длиться несколько минут. За это время Дантес не успел бы не только броситься на колени, а для этого все-таки нужна словесная подготовка, чтобы, по крайней мере, высказать ряд угроз и молений, после чего уже пускать в ход пистолет. Значит, сцена была гораздо продолжительней.
Во всяком случае, роль Идалии здесь ясна: она сводня. С. Абрамович пишет: «Когда Пушкин узнал обо всем, вероломство Идалии, очевидно, его особенно потрясло: ведь все эти годы он принимал ее у себя как друга дома. Можно не сомневаться, что Пушкин нашел в эти дни случай выразить ей свои чувства без обиняков <…> она с этого времени возненавидела Пушкина и сделалась его смертельным врагом»[72]. Можно представить себе, что и как сказал во гневе Пушкин (он умел ругаться, в том числе по-матерному)!
С. Абрамович все это свидание датирует 2 ноября 1836 года. Она анализирует разорванный черновик пушкинского письма к Геккерну-старшему. Письмо было прочитано и реконструировано Н. В. Измайловым и Б. В. Казанским по уцелевшем клочкам: «2-го ноября у вас был [от] с вашим сыном [новость <…> доставила большое удовольствие. Он сказал вам] [после одного] вследствие одного разговора (…)ешен, [что, моя жена опаса(ется) анонимное письмо [<…> что она от этого теряет голову] <…> нанести решительный удар <…> (со)ставленное вами и <…> экземпляра [ано(нимного) письма] <…> были разосланы <…> было сфабриковано с <…>»
Основной смысл этого фрагмента не вызывает сомнений. Пушкин утверждает, что анонимные письма – дело рук господ Геккернов и что замысел этого «решительного удара» возник у них 2 ноября после какого-то известия, сообщенного Дантесом <…> Все упоминания о жене, которые в первый момент непроизвольно вырвались у него, Пушкин затем тщательно вычеркивает («моя жена опасается…», «она от этого теряет голову…»).
Если сопоставить эти первоначально легшие на бумагу пушкинские строки с тем, что рассказывает Александр Карамзин («Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына; потом стал грозить местью; два дня спустя появились эти анонимные письма (…) За этим последовала исповедь госпожи Пушкиной своему мужу, вызов…»[73]) о событиях тех дней, становится очевидным, что 2 ноября, как уже говорилось, оказалось переломным моментом во взаимоотношениях Натальи Николаевны с Дантесом. До этого дня ее умоляли, заклинали и т. п. Но внезапно все изменилось: Геккерны стали грозить ей местью… Она оказалась в ужасном положении… чего-то опасалась… теряла голову…
Естественно предположить, что роли изменились именно после свидания у Полетики, обманувшего надежды Дантеса <…> 2 ноября. Вот тогда-то жена поэта и оказалась в зависимости от Геккернов. Ей стали грозить оглаской происшедшего, тем, что она все равно будет обесчещена в глазах мужа и общества»[74].
На самом деле угрозы появились гораздо раньше 2 ноября; о них шла речь уже 17 октября, на вечере Лерхенфельдов, куда Геккерн отправился исполнять поручение приемного сына. И объяснение, состоявшееся между супругами Пушкиными якобы 4 ноября, только лишь гипотеза С. Абрамович, принятая на веру большинством пушкинистов и повторенная затем в 4-томной «Летописи жизни и творчества Пушкина» как установленный факт[75].
С. Абрамович приходит примерно к тем же выводам, что и Ахматова. Вспомним, как Ахматова, анализируя тоже ноябрьский черновик Пушкина – правда, уже письмо к Бенкендорфу, выделила выражение «мои молодцы» («mes drôles»), явно относившиеся к парочке Геккернов.
Подводя итоги, можно отчасти гипотетически реконструировать ситуацию. Старик Геккерн разговаривает с Натальей Николаевной (вероятней всего, это происходит 17 или 18 октября), преследует ее низкими предложениями, по выражению Пушкина, точно бесстыжая старуха. Наталья Николаевна рассказывает об этом мужу (может быть, значительно раньше, чем в день присылки анонимных пасквилей, 4 ноября). Пушкин уже готов к действиям против Геккернов, но пока выжидает. 2 ноября происходит встреча у Идалии Полетики, влюбленной в Дантеса, и выполнившей предательскую роль подруги-сводни (вот и вторая сводня). Жена рассказывает об этом не только Вяземской, но и Александрине с Екатериной (будущей жене Дантеса), а также и мужу. 2 или 3 ноября – это день объяснения. Скорее всего, Наталья Николаевна показывает Пушкину письма Дантеса. Он их читает, притом что еще в сентябре – октябре у него произошло объяснение с Дантесом и он категорически отказал Дантесу от дома. В тот же день предположительно (2 вечером или 3 ноября), в гневе и бешенстве он находит Идалию Полетику и высказывает ей все, что о ней думает, – в крайне оскорбительной форме (не дошло ли тут до рукоприкладства?!). В этот же день, 3 ноября, он, возможно, пишет черновики писем Геккерну и Бенкендорфу, но рвет их, так как они его не удовлетворяют: жена оказывается замешанной в эту историю и ее роль может обернуться позором, бесчестием для всей семьи.
Взбешенная, в свою очередь, Идалия Полетика встречается с Дантесом и предлагает ему наказать, покарать Наталью Николаевну. Нужно сделать так, чтобы опозорить ее в кругу близких людей, чтобы муж скрежетал зубами, не имея возможности что-нибудь предпринять. Необходимо довести его до еще большего бешенства, чтобы он как следует избил жену, тем самым оттолкнув ее от себя и бросив прямо в объятия к Дантесу. Куда же она тогда пойдет, оскорбленная и униженная? Только к возлюбленному, который давал ей торжественную клятву в вечной любви!
Таким образом, они убивают двух зайцев: Пушкина становится долгожданной возлюбленной Дантеса, а Идалия мстит Пушкину за его оскорбления. Вероятнее всего, идея послать анонимные пасквили была у Дантеса задолго до этого спонтанного решения. В нидерландском посольстве он обнаружил образцы «дипломов», кем-то привезенных из-за границы. (Эти образцы позднее Д’Аршиак, будущий секундант Дантеса, покажет Вл. Соллогубу.) Он продумывает закодированное сообщение оскорбительного характера на оттиске печати, использует для этого масонские символы. Заказывает заранее изготовление печатки по рисунку-образцу.
Трудно сказать, участвовал ли в этом деле Геккерн-старший. Вполне мог на первом этапе и не участвовать: уж очень это было опасно и рискованно. К тому же в анонимке давался намек по царской линии: Нарышкин был мужем любовницы Александра I Нарышкиной и получал деньги от царя за пользование женой: он приходил к царю с красивой книгой в дорогом переплете, в книгу был вложен чек на кругленькую сумму в несколько сот тысяч рублей, якобы на издание повести, – царь подписывал этот чек. Так происходило много раз, но однажды царь захлопнул книгу и сказал: «Издание этой повести прекращается»[76]. Пушкин понимает намек на царя Николая I, который ухаживал за его женой, и потому посылает 6 ноября письмо министру финансов Е. Ф. Канкрину с предложением зачесть в счет его долга правительству имение Михайловское. Канкрин отклоняет предложение Пушкина. Геккерну в качестве нидерландского посланника крайне невыгодно было даже намекать на царя: это грозило отставкой. Царь тоже понял намек в свою сторону и Геккерна в конце концов удалил, прислав ему табакерку, что означало, что император не желает видеть посланника на прощальной аудиенции. То, что Геккерн-старший поначалу не знал о «шалостях» приемного сына, доказывает его письменный упрек Дантесу о том, какое дело тот ему оставил.
Возможно, готовясь к написанию пасквилей, Дантес рискованно использовал нечто, что позволило Пушкину, проведя частное расследование, утверждать точно: авторы пасквиля – Геккерны. Допустим (эта гипотеза требует дальнейшей проработки), в рисунке на печатке Дантес изобразил какой-то элемент своего герба или герба Геккерна, имя которого он принял. Не было ли на гербе Геккерна птицы? Птица, клевавшая букву «П», как будто бы, ради изощренного издевательства, могла прямо сойти с герба Геккерна на печатку-ребус. (Герб голландского посольства – золотой лев, сотрясавший мечом и стрелами на голубом фоне, – изображенный на дверях посольства[77], здесь очевидно не подходит.) Пушкин в своих розысках мог пойти по трем линиям одновременно: отрабатывая масонский след; выясняя, не заказана ли печатка специально в мастерской; расследуя, не сходен ли герб Геккерна с изображением птицы на печатке. Не случайно Пушкин писал в письме к Бенкендорфу: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата» (ХVI, 191–192, 397–398).
Кстати, для розысков и нужно было время: двухнедельная отсрочка от дуэли, которую он дает Геккерну-старшему, требовалась Пушкину, во-первых, чтобы привести в порядок свои дела и, во-вторых, чтобы отыскать автора диплома. Поэтому, когда в письме П. А. Вяземского к великому князю Михаилу сказано, что Пушкин вместо недели, о которой просил у него Геккерн, дал ему две, «тронутый волнением и слезами отца»[78], это звучит просто смехотворно. Как будто Пушкин мог поверить слезам, в то время как совсем недавно Геккерн по углам нашептывал его жене всякие мерзости, призывал изменить ему и отдаться Дантесу.
То, что Пушкин исследовал бумагу, на которой написаны пасквили, мы знаем. Он обратился к своему лицейскому товарищу М. Л. Яковлеву, который был типографом и хорошо разбирался в бумаге. Я. К. Грот со слов лицейского товарища Пушкина Ф. Ф. Матюшкина писал: «В ноябре 1836 г. Пушкин вместе с Матюшкиным был у М. Л. Яковлева в день его рождения (8 ноября. – А. Г.); еще тут был князь Эристов, воспитанник второго курса, и больше никого. Пушкин явился последним и был в большом волнении. После обеда они пили шампанское. Вдруг Пушкин вынимает из кармана полученное им анонимное письмо и говорит: «Посмотрите, какую мерзость я получил». Яковлев (директор типографии II-го Отделения собственной е. в. канцелярии) тотчас обратил внимание на бумагу этого письма и решил, что она иностранная и, по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, должна принадлежать какому-нибудь посольству. Пушкин понял всю важность этого указания, стал делать розыски и убедился, что это бумажка голландского посольства»[79].


