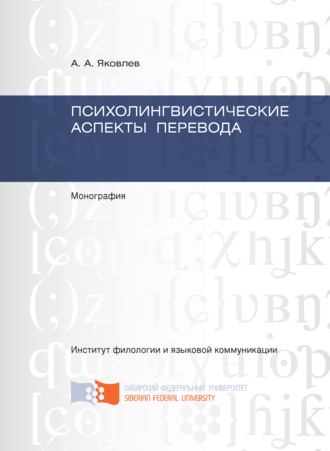
А. А. Яковлев
Психолингвистические аспекты перевода
Моей матери Н. Н. Яковлевой
Введение
Было бы банальностью утверждать, что переводоведение за годы своего развития вышло далеко за пределы теорий 50–70-х годов: как термины и понятия, так и роль переводчика и перевода в мире значительно изменились, что не могло не отразиться на теоретических основах этой науки. Существенные изменения произошли не только в переводоведении и не только в языкознании в целом, но и в смежных науках и сферах жизни общества (психологии или, скажем, педагогике), а также в тех, которые смежными с переводоведением раньше не считались (например, политология, маркетинг). На сегодняшний день исследования, так или иначе касающиеся перевода, осуществляются на основе литературоведения и сравнительно-сопоставительного языкознания, на основе теории текста, когнитивного и дискурсивного направлений в языкознании, нейролингвистики и многих других наук и их разделов.
Несмотря на, казалось бы, гигантский охват вопросов, поставленных на рассмотрение переводоведением, их всё же остаётся пока больше, чем ответов – не столько потому, что ответов на них нет, сколько потому, что подходящими зачастую оказываются совершенно разные ответы.
Для переводоведения, наверное, как ни для какой другой области науки о языке, характерна тенденция, когда авторы либо не выражают эксплицитно общих положений, из которых они исходят, либо принимают за отправные точки своих исследований не вполне сочетающиеся между собой положения. Для такой ситуации очень подходит суждение Р.М. Фрумкиной о том, что «редкие авторы, независимо от весомости их научного вклада, берут на себя труд сформулировать общеметодологические основы своих построений» [Фрумкина 1996: 57]. Ср. ещё более категоричное высказывание Н.В. Крушевского: «…Большинство лингвистов не задаёт себе труда точно и ясно сформулировать те общие принципы, которым они следуют в своих специальных работах. А извлекать самому эти принципы из специальных исследований – работа трудная и неблагодарная» [Крушевский 1998: 135–136]. Определение и формулирование теоретических и методологических основ исследования и принимаемых во внимание онтологических особенностей изучаемого объекта в высшей степени существенны при изучении перевода, ведь его лингвистическое, коммуникативное, культурное и прочее своеобразие вряд ли кто-то станет оспаривать.
Относительно целей настоящей науки Э.В. Ильенков писал: «Я думаю, что если Наука не отвечает на вопрос “почему?” – т.е. не даёт причинного объяснения вещи, а только эту вещь описывает, только рассказывает, как эта вещь выглядит, – то это не есть Наука, как достоверное знание о вещах, а всего-навсего систематизированное описание моих или чужих представлений, только плод Воображения, а не Разума. Не зная “причины”, я не знаю тех условий, при которых интересующая меня “вещь” возникает с необходимостью, а не по чуду, и потому не могу активно – по своей воле – эту вещь вызывать к жизни, создать или воссоздать её собственным действием. Иначе говоря, не зная “причины”, я и сам не могу выступить в роли “причины” возникновения этой вещи, не могу повторить акт её творения» [Ильенков 1999: 231]. Не зная «причины» перевода, невозможно ни вызвать его к жизни в другом индивиде (то есть научить ему), ни даже в достаточной степени его изучить, т.е. понять, при каких факторах в переводе проявляются те или иные особенности.
Автор настоящей работы ставит перед собой весьма скромные цели. Во-первых, кратко описать и обосновать те общие философские, методологические, психологические и лингвистические положения, которые лежат в основе описываемой в книге концепции. Это позволит обозначить общие теоретико-методологические пути к пониманию сущности такого явления, как перевод, с позиций разных наук и направлений, но в первую очередь – с точки зрения теории речевой деятельности (точнее было бы сказать – с точки зрения деятельностной психолингвистики [Залевская 2007: 24]). Без обозначения таких отправных точек дальнейшая теоретическая и экспериментальная работа невозможна. Во-вторых, с позиций выработанной теоретико-методологической базы описать и проанализировать основные характеристики перевода, понимаемого как особый вид речемыслительной деятельности, выделить особенности взаимодействия различных аспектов этого многообразного явления и представить их в виде модели перевода, наметить пути дальнейшей теоретической и экспериментальной работы. В-третьих, обозначить (также в самом общем плане) исходные теоретико-методические положения концепции обучения переводу, главным образом, с позиций теории развивающего образования и функциональной грамматики. Само собою разумеется, что та или иная концепция преподавания перевода должна опираться на какую-то его модель, как бы уходить в неё корнями. В свою очередь, эта модель должна изначально строиться с учётом перспективы её применения на практике, а также должна обладать определённой степенью гибкости, чтобы при необходимости её можно было модифицировать, исходя из особенностей разрабатываемой методики. Таким образом, все три обозначенные цели тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, хотя модель перевода необязательно должна быть направлена на его преподавание.
Разработка названных и сопутствующих им вопросов позволит, как мы надеемся, создать в дальнейшем систему понятий и категорий (теорию) для возможно более полного и разностороннего изучения (прежде всего, экспериментального) перевода с позиций теории речевой деятельности и деятельностного подхода в психологии и философии, а также для разработки соответствующего подхода к обучению переводу.
Постановка названных целей и определила во многом структуру работы. Первая глава посвящена самым общим философским и психологическим принципам, на которые опирается дальнейшее исследование. Во второй главе книги нами изложен взгляд на перевод с психолингвистических позиций, проанализированы точки зрения, помогающие как можно более полно раскрыть и глубже понять всё многообразие перевода, а также предложена соответствующая модель этого процесса. Третья глава посвящена проблемам преподавания перевода с позиций теории речевой деятельности, теории функциональной грамматики и теории развивающего образования. Разумеется, данный подход к обучению переводу основан на предлагаемой нами модели и наших взглядах на онтологию перевода, т.е. на том теоретическом материале, который изложен в первых двух главах.
В научной деятельности, да и в любой другой, как отмечает Е.Е. Соколова, смыслы неотделимы от значений, но первые не должны преобладать над вторыми [Соколова 2006: 108]. А потому мы на протяжении данной работы не пытаемся намеренно отделить смыслы, вкладываемые нами в те или иные категории и понятия, от их значений, полностью принимая на себя ответственность за высказываемые идеи. Мы стремимся показать не просто наше видение вопроса, а именно наше видение, т.е. собственную точку зрения на рассматриваемые вопросы, не считая, разумеется, её догматически неизменной и уж тем более единственно верной и не пытаясь безальтернативно противопоставить её какой-то другой точке зрения.
Со своей стороны, мы надеемся, что этот очерк внесёт, пусть и небольшой, вклад в развитие и «взросление» переводоведения, и хотели бы выразить глубокую признательность Ю.С. Яковлевой за помощь в подготовке книги.
Г л а в а 1
Философские и психологические основы психолингвистической теории перевода
Задача любой теории перевода состоит не в том, чтобы просто описывать и сравнивать отдельные переводные акты, не в том, чтобы констатировать, что в таком-то случае переводчик действует так-то, а в другом иначе. Её задача в том, чтобы объяснять соотношение и взаимозависимость между определёнными видами и формами речемыслительных действий переводчика и теми характеристиками и элементами текста и речевой ситуации, которые являются условием, причиной или следствием этих его действий. Говоря иначе, теория перевода имеет объяснительный потенциал, когда она направлена не столько на констатацию внешних, эмпирических особенностей наблюдаемых явлений, сколько на выявление онтологии, внутренних механизмов, лежащих в основе того, что наблюдаемые явления таковы, каковы они есть. При исследовании перевода, поняв и выделив характер указанного соотношения внутренних (относящихся к деятельности переводчика) и внешних (относящихся к ситуации общения) факторов, мы должны выявить в этом соотношении абстрактное содержание [Мамардашвили 2011: 108–109] и вновь вернуться к конкретным актам перевода, объяснив их с позиций этого высшего, всеобщего уровня. Но такое абстрагирование и объяснение с его помощью большого числа эмпирических фактов требует принятия за основу некоторой философской, лингвистической и психологической концепции, которая обеспечит теорию перевода категориально-понятийным и методологическим аппаратом, способным служить исходной системой координат как для описания отдельных фактов в их разнородности и неповторимости, так и для их систематизации, обобщения, объяснения.
Так как мы намерены ниже рассматривать перевод с позиций теории речевой деятельности, то логичным было бы принять за исходную систему координат психологическую теорию деятельности, разрабатываемую в основном отечественными учёными и лежащую в основе практически всей отечественной психолингвистики. Деятельностный подход позволяет связать перевод как с другими психическими процессами и явлениями, так и с другими видами и формами деятельности человека.
За философскую основу нашей концепции взяты некоторые идеи Э.В. Ильенкова и М.К. Мамардашвили (в основном ранние его работы), которые также существенным образом повлияли на развитие психолингвистики в нашей стране.
1.1. Идеальное и превращённая форма
Э.В. Ильенкова принято считать «чистым» марксистом, что зачастую приобретает характер догматического суждения, не требующего пересмотра и даже обдумывания. Такое однозначное отнесение Э.В. Ильенкова к «лагерю» марксистов представляется нам огрублением его идей. Во-первых, взгляды Э.В. Ильенкова, например на идеальное, восходят не только и не столько к Марксу, сколько к Гегелю и развивают именно его философию, если не принимать во внимание конъюнктурных упоминаний «классиков марксизма-ленинизма», а иметь в виду касающиеся сути дела обращения Э.В. Ильенкова к авторам-марксистам. Во-вторых, внимательному читателю его текстов очевидна также его близость к Спинозе. В частности, философ называет гениальным решение Спинозой вопроса об отношении мышления к миру, которое состоит в том, что мышление и протяженность – это не две субстанции, а лишь два атрибута одной и той же субстанции [Иль-енков 1984: 36], да и содержательно суждения самого Э.В. Ильенкова о мышлении и мыслящем теле идут в русле соответствующих суждений Спинозы [Новохатько 2009]; ср. также ту трепетность, с которой Э.В. Ильенков выражает интересные для него другие идеи Спинозы в материалах к книге о нём [Ильенков 1999].
Помимо всего прочего существенным вкладом в мировую философию была развитая Э.В. Ильенковым концепция идеального.
Корни этих идей можно усмотреть и в античности, особенно в философии Демокрита: «Ильенков дал современное, подтверждённое теорией интериоризации освещение второго аспекта демокритовского эйдолона: не вещество отражаемого предмета переносится в субъективный мир человека, а схема практики (в общем случае – схема деятельности) снимает с предмета информацию об общем (существенном) и транспортирует её в субъективный мир человека» [Пивоваров 2012: 26].
Одна из основных и частых ошибок анализа категории идеального состоит в том, чтобы отождествлять идеальное с психикой и тем более с отдельной психикой. Отсюда обычно делается далеко идущий вывод о том, что вне отдельной психики никакого идеального якобы нет, а признание обратного выливается в почти спиритуалистические вымыслы о витающих в воздухе «идеях». Однако же идеальное или идеальность – это не плод недомыслия, объективная реальность идеальных форм – это не досужая выдумка злокозненных идеалистов [Ильенков 2009а: 209]. Необходимо также помнить о мыслительной редукции, согласно которой существуют-де только единичные чувственно воспринимаемые «вещи», а всеобщее и идеальное есть фантом воображения, который не обусловлен ничем, кроме многочисленно повторяющихся актов восприятия отдельных «вещей» отдельным же индивидом, усматривающим в них нечто схожее [там же: 158].
Под идеальностью или идеальным следует понимать «…то очень своеобразное и чётко фиксируемое соотношение между двумя (по крайней мере) материальными объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями) внутри которого один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого объекта, а ещё точнее – всеобщей природы этого объекта, всеобщей формы и закономерности этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его изменениях, во всех его эмпирически очевидных вариациях» [там же: 160]. В другой своей работе Э.В. Ильенков указывает, что идеальное нельзя трактовать как застывшую данность: «Определение идеального сугубо диалектично. Это то, чего нет и что вместе с тем есть, что не существует в виде внешней, чувственно воспринимаемой вещи и вместе с тем существует как деятельная способность человека. Это бытие, которое, однако, равно небытию, или наличное бытие внешней вещи в фазе её становления в деятельности субъекта, в виде его внутреннего образа, потребности, побуждения и цели. Именно поэтому идеальное бытие вещи и отличается от её реального бытия, как и от тех телесно-вещественных структур мозга и языка, посредством которых оно существует “внутри” субъекта. От структур мозга и языка идеальный образ предмета принципиально отличается тем, что он – форма внешнего предмета. От внешнего же предмета идеальный образ отличается тем, что он опредмечен непосредственно не во внешнем веществе природы, а в органическом теле человека и в теле языка как субъективный образ. Идеальное есть, следовательно, субъективное бытие предмета, или его “инобытие”, – бытие одного предмета в другом и через другое, как выражал такую ситуацию Гегель» [Ильенков 1984: 172–173].
И отсюда следует, что идеальное не относится к отдельно взятым субъектам, а характеризует социальных индивидов в рамках их общественного взаимодействия: «Идеальность… имеет чисто социальную природу и социальное происхождение. Это форма вещи, но существующая вне этой вещи и именно в деятельности человека как форма этой деятельности. Или, наоборот, это форма деятельности человека, но вне этого человека, как форма вещи» [Ильенков 2009а: 190]. Идеальное суть «…телесно воплощаемая форма активной деятельности общественного человека…» [там же: 192]. Идеальная форма – это форма вещи, созданная общественно-человеческим трудом, это форма вещи, но вне этой вещи, а в форме деятельности человека, её цели, потребности и способа выполнения. Или, наоборот, это форма труда, активной жизнедеятельности социального человека, но вне человека, а в форме созданной им вещи, в форме «человеческого» использования этой вещи. Это – форма, осуществлённая в веществе природы и потому представшая перед самим творцом как форма вещи или как отношение между вещами, в которое их (вещи) поставил человек, его труд и которым они сами по себе никогда бы не стали [там же: 210, 212].
В отдельной «голове», в сознании индивида, отделённого от общества, от общественных связей идеальное возникнуть не может: «Отдельный индивид всеобщие формы человеческой деятельности в одиночку не вырабатывает и не может выработать, какой бы силой абстракции он ни обладал, а усваивает их готовыми в ходе своего приобщения к культуре, вместе с языком и выраженными в нём знаниями» [Ильенков 1984: 186]. Создание идеальной формы объекта не есть простое думанье об этом объекте, это не воображение и не абстрагирование, идеальное требует взаимодействия индивидов, общения в самом широком смысле: «…Идеальное как общественно-определенная форма деятельности человека, создающей предмет той или иной формы, рождается и существует не в голове, а с помощью головы в реальной предметной деятельности человека…» [там же: 170–171].
Иначе говоря, идеальное – это форма труда, форма деятельности, осуществлённая в веществе природы, воплощённая в нём и в дальнейшем оторванная от своих изначальных деятельных основ, являемая перед человеком в уже данном, цельном и неразложимом виде. Эта созданная человеком вещь заключает в себе в снятом виде форму активной жизнедеятельности людей. «Именно поэтому человек и созерцает “идеальное” как вне себя, вне своего глаза, вне своей головы существующую объективную реальность. Поэтому и только поэтому он так часто и так легко путает “идеальное” с “материальным”, принимая те формы и отношения вещей, которые он сам же и создал, за естественно-природные формы и отношения этих вещей, а исторически-социально “положенные” в них формы – за природно-врождённые им свойства, исторически переходящие формы и отношения – за вечные и не могущие быть изменёнными формы и отношения между вещами – за отношения, диктуемые “законом природы”» [Ильенков 2009а: 210–211].
Э.В. Ильенков понятием идеального решил вопрос о переносчике «информации» о реально всеобщем и общем от объекта к субъекту, которым (переносчиком) является схема практики, то есть исторически усвоенная форма осуществления деятельности [Пивоваров 2012: 25]. Через идеальное человек усваивает, воспроизводит, отражает объективные взаимодействия вещественных предметов в форме своей субъективной деятельности.
Сравнивая точки зрения Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова и М.А. Лифшица на идеальное (которые во многом различны), Д.В. Пивоваров приходит к следующему выводу: «Действительно, образ сознания не веществен; схема практики лишь моделирует объект, но не переносит вещество объекта в субъектный мир человека; совершенный предмет (эталон) воплощает в себе в концентрированном виде системные свойства целого класса вещей, но вовсе не вещество этого класса. Отсюда, логично предположить, что идеальное есть не просто либо субъективная реальность, либо схема практики, либо объектный эталон, но представляет собой системное свойство всего целостного отношения субъекта и объекта» [там же: 28].
Важно также, что Д.В. Пивоваров образование идеального образа называет взаимным отражением субъекта и объекта, необходимыми компонентами которого являются:
1) выделение в некоторой чувственно воспринимаемой предметной среде единичного объекта, который признаётся субъектом относительно совершенным, эталонным, репрезентативным;
2) положение этого эталона («знака сокрытой сущности») в субъективный мир индивида посредством интериоризации изобретённой схемы действия с образцом;
3) экстраполяция эмпирического знания о конкретных свойствах эталона на более широкую реальность, чаще всего недоступную в прямом опыте, а потому сверхчувственную [там же: 30].
Именно так образ конкретного объекта (процесса, явления, состояния) посредством деятельности субъекта входит, встраивается в сознание индивида, в его образ мира, изменяясь сам и изменяя, пусть и незначительно, этот образ мира, а значит, и деятельность субъекта (её актуальные формы или содержащиеся в сознании её образцы).
С другой стороны, категория идеального даёт вполне материалистический ответ на вопрос о «переходе» знания, информации от одного субъекта к другому субъекту. «Человек не может передать другому человеку идеальное как таковое, как чистую форму деятельности… Идеальное как форма субъективной деятельности усваивается лишь посредством активной же деятельности с предметом и продуктом этой деятельности, т.е. через форму её продукта, через объективную форму вещи, через её деятельное распредмечивание. Идеальный образ предметной действительности поэтому и существует только как форма (способ, образ) живой деятельности, согласующаяся с формой её предмета, но не как вещь, не как вещественно фиксированное состояние или структура» [Ильенков 1984: 183], а как зафиксированная форма деятельности. «Идеальное и есть не что иное, как совокупность осознанных индивидом всеобщих форм человеческой деятельности, определяющих как цель и закон волю и способность индивидов к деянию [там же: 183–184]. Именно это позволяет индивидам обмениваться ими, а не вырабатывать каждый раз заново. И эти идеи философа имеют большое значение для теории обучения, в частности обучения переводу, о чём подробно будет сказано в третьей главе.
Вырабатываемые в деятельности, идеальные предметы не просто связаны с деятельностью индивида – они только в ней и существуют, а «когда предмет создан, потребность общества в нём удовлетворена, а деятельность угасла в её продукте, умерло и самое идеальное» [там же: 180].
Следовательно, идеальные вещи – это «вещи, которые, будучи вполне “материальными”, осязаемо телесными образованиями, всё своё “значение” (функцию и роль) обретают от “духа”, от “мышления” и даже обязаны ему своим определённым телесным существованием» [Ильенков 2009а: 193]. К разряду таких «вещей» относятся слова и вообще все знаки: «Вне духа и без духа нет и слова, есть лишь колебания воздуха» [там же]. Таким образом, говоримое или слышимое, написанное или прочитанное слово – «это форма человеческой жизнедеятельности, но существующая вне этой жизнедеятельности, а именно – как форма внешней вещи» [там же: 202], то есть в графическом или акустическом виде. На это положение Э.В. Ильенкова следует обратить пристальнейшее внимание. Для него знак соотносится не с предметом, не с вещью в «объективной» действительности, а с деятельностью человека, со способом её осуществления. Именно в деятельности и за счёт неё слово как вещь обретает значение и смысл для субъекта, эту деятельность осуществляющего.
Идеи Э.В. Ильенкова о природе идеального важны для понимания сущности перевода, так как среди прочих определений и пояснений он, опираясь на Гегеля, говорит об идеальном как о такой форме деятельности общественного человека, где происходит «снятие внешности», переход природного предмета в предмет труда, а затем в продукт труда [Ильенков 1984: 173], а перевод есть такая деятельность, в которой создаваемый текст является сначала предметом труда переводчика, а затем и его конечным продуктом. Текст перевода, являясь вполне материальным объектом, имеет в большой степени идеальную природу, создаётся в сознании деятельного индивида (переводчика) и при помощи существующих в его сознании социально выработанных средств и образцов деятельности, а затем существует вполне материально как объект, в котором опредмечены характеристики речемыслительной деятельности переводчика и нормы социальной практики, в рамках которой этот текст дальше используется.
Идеальное не есть какая-то отдельная «вещь», а есть условие существования другого предмета (других предметов). Поэтому идеальное и не существует в самом этом предмете, а должно постоянно возобновляться как условие беспрерывного воссоздания предмета в деятельности и/или сознании.
Думается, важным здесь для переводоведения является разграничение анализа текста перевода как предмета деятельности и как её конечного продукта. Многие теории оперируют текстом перевода в его конечной данности, но не в его становлении; рассмотрение же текста с позиций категории идеального требует обращения к качественно иным подходам к изучению текста и позволяет рассматривать его и как субъективное явление, существующее в сознании переводчика, и как объективную материальную «вещь».
К тому же мысль Э.В. Ильенкова о том, что идеальное передаётся от одного индивида к другому через продукт деятельности и заложенную в него схему практики, существенна для понимания того, что текст перевода не сам собой несёт некоторую информацию его конечному получателю. Этот последний должен осуществить некоторую активность (смысловое восприятие, понимание) по распредмечиванию схем и форм деятельности, заложенных в текст, согласующихся с существующими в культуре образцами этой деятельности и способами этого распредмечивания. Такая постановка вопроса делает идеалистическими и малопригодными для нас любые подходы к переводу как «переносу» текста или, более того, смысла текста непосредственно из одной культуры в другую либо из одной «головы» в другую. Если же в культуре и обществе, к которому принадлежит получатель текста, нет достаточных или подходящих способов распредмечивания заложенных в текст схем и форм деятельности (в том числе всяческих форм деятельности интеллектуальной), то текст этот так и останется непонятым [Ильенков 1999: 201–202; Мамардашвили 2010: 26–27].
Если вернуться и вспомнить характеристику идеального как того, чего нет, но что всё же есть не в качестве отдельной «вещи», а в качестве деятельной способности человека, бытия равному небытию, то здесь нетрудно усмотреть существеннейшую, содержательную связь с идеями М.К. Мамардашвили, в частности, о субъект-объектном пространстве, о континууме бытия и сознания. Перейдём теперь к более детальному рассмотрению некоторых суждений этого философа, которые будут нам в дальнейшем полезны.
Как правило, имя М.К. Мамардашвили связывают с его знаменитыми лекциями о Прусте, оставляя в стороне другие затронутые им вопросы философии; принято также делить его творчество на «раннего» и «позднего» Мамардашвили и резко разграничивать эти два периода. И если первое допущение имеет некоторое обоснование (лекции о Прусте действительно являются вершиной его философии), хотя и связано иногда с недостаточно глубоким знакомством с наследием философа, то второе допущение во многом ошибочно. В самом деле, ранние работы М.К. Мамардашвили посвящены в основном марксистскому анализу сознания и превращённых форм, но эти идеи проводятся им и в других, более поздних, работах в качестве неклассического идеала рациональности и в качестве идеи о непсихичности социальных взаимодействий людей. «Если и есть искушение толковать этот этап развития Мамардашвили как впоследствии оставленный им позади и преодолённый, то всего вернее такому искушению не поддаться» [Мотрошилова 2009: 335].
Нас здесь, однако, будут интересовать именно суждения, относящиеся к более раннему периоду его философствования.
М.К. Мамардашвили вводит понятие квазипредмета, или квазиобъекта в связи с марксовым понятием превращённой формы. Квазиобъект как раз и является такой «вещью», которая при поверхностном её рассмотрении предстаёт перед нами как данность, цельная и неделимая, а в сущности содержит в себе в превращённом виде соотношения и связи иных «вещей» или явлений. Но связи эти не выражены в ней непосредственно или вовсе не выражены, видна лишь сама эта форма, а невыраженность связей может восприниматься (и чаще всего воспринимается) как их полное отсутствие.
«Подобная форма существования есть продукт превращения внутренних отношений сложной системы, происходящего на определённом её уровне и скрывающего их фактический характер и прямую взаимосвязь косвенными выражениями. Эти последние, являясь продуктом и отложением превращённости действия связей системы, в то же время самостоятельно бытийствуют в ней в виде отдельного, качественно цельного явления, “предмета”, наряду с другими» [Мамардашвили 2011: 246]. Тот предмет действительности, который обладает характеристиками превращённости, и есть квазиобъект – случай «…когда вещь наделяется свойствами общественных отношений, и эти свойства выступают вне связи с человеческой деятельностью, то есть вполне натуралистически» [там же]. Этим и объясняется видимое отсутствие заложенных в квазиобъект отношений и связей.
«Вещественные формы продуктов человеческой деятельности всегда приобретают свойство быть знаками социальных значений и как таковые регулируют сознательную деятельность индивидов, их общение» (курсив наш ‒ А.Я.) [там же: 222]. В свою очередь, эти отношения, «…из взаимосвязи и сплетения которых форма черпает своё первичное содержание и жизнь, опущены» [там же: 224].
«Особенность превращённой формы, отличающая её от классического отношения формы и содержания, состоит в объективной устранённости здесь содержательных определений: форма проявления получает самостоятельное “сущностное” значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным отношением, которое сливается со свойствами материального носителя (субстрата) самой формы (например, в случае символизма) и становится на место действительного отношения. Эта видимая форма действительных отношений, отличная от их внутренней связи, играет вместе с тем – именно своей обособленностью и бытийностью – роль самостоятельного механизма в управлении реальными процессами на поверхности системы. При этом связи действительного происхождения оказываются “снятыми” в ней (как динамические закономерности – в статистических, связи формирования сознания – в закономерностях узнавания предметов, угадывания смысла и т.д.). Прямое отображение содержания в форме здесь исключается» [там же: 247].
Квазиобъект так же реален, как и любой другой предмет «объективной» действительности, однако реальность его особая. Как ясно из вышесказанного, квазиобъект является идеальным образованием, не существующим вне деятельности индивида. С другой же стороны, снятость и кристаллизованность общественных деятельностей и отношений индивидов зафиксированы в квазиобъекте и в такой фиксированной форме являются частью «объективной» действительности, с которой индивиду и приходится иметь дело. Именно отсюда следует идея субъект-объектного континуума, континуума «бытие – сознание», позволяющая рассматривать «бытие» и «сознание» как отдельные моменты этого континуума, «…где теряют смысл классические различения объекта и субъекта, реальности и способа представления, действительного и воображаемого и т.д.» [там же: 261].
Превращённая форма изначально берёт своё содержание из реальных взаимодействий предметов и людей, но сознанию она дана как уже наличная и далее неразложимая. «Хотя действительная жизнь таких форм определяется этим взаимодействием, они, становясь особым элементом системы, представляются готовыми предпосылками, исходными причинами всего движения целого» [там же: 250]. Действительно, то, что дано нам в наблюдении прямо, как начальный его элемент, на самом деле является конечным продуктом превращения отношений между формой и содержанием в иные. «Действие синкретического механизма превращённой формы основывается на том, что отношение уровней системы оборачивается: продукты процесса выступают как его условия, встраиваются в его начало в виде предваряющих “моделей”, “программ”» [там же: 258].






