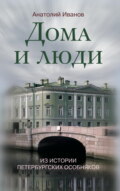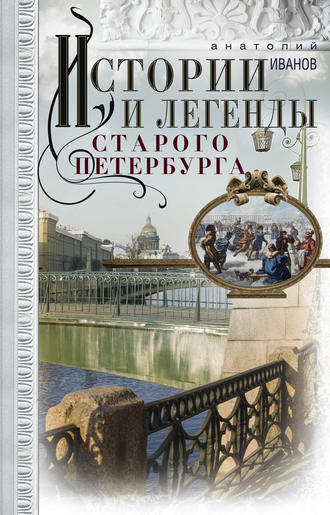
А. А. Иванов
Истории и легенды старого Петербурга
«Чудо» в Апраксином переулке
Если Садовую улицу можно уподобить полноводной реке, то Апраксин переулок заслуживает сравнения с питающим ее притоком: неиссякаемые толпы народа, переливающиеся из его узкого русла на главную магистраль, устремляются к близлежащему морю – Сенной площади, принимающей в себя бурные потоки и вновь извергающей их во всех направлениях.
Вряд ли камергер граф Федор Андреевич Апраксин, получая от императрицы Анны Иоанновны под загородную усадьбу обширный участок заболоченной земли у речки Фонтанной, мог себе представить, что не пройдет и двадцати лет, как поблизости возникнет оживленная площадь, на которой станут продавать лошадей и сено, а еще двадцать лет спустя его сын Матвей Федорович, как заправский барышник, начнет спекулировать построенными на своем «дворе» торговыми лавками!

Апраксин переулок. Вид от улицы Садовой. Современное фото
Судя по плану Петербурга 1738 года и по махаевскому, изданному к пятидесятилетнему юбилею столицы, первоначально усадьба Апраксина была значительно больше, простираясь до будущей Гороховой улицы, а безымянный переулок, названный позднее Апраксиным, рассекал графские владения надвое. Интересно, что деревянные господские хоромы находились на берегу Фонтанки, но не в левой части усадьбы, где ныне универмаг «Апраксин двор» и где в ту пору стояли лишь служебные постройки, а в правой, образующей нечетную сторону нынешнего переулка. Уже к концу XVIII века Апраксины перестали владеть ею, и она была застроена обывательскими домами.
Народ здесь испокон веку селился темный, кондовый, хотя и не без купеческой сметки. Как уже говорилось, территория апраксинской усадьбы была сильно заболочена; для ее осушения хозяин распорядился выкопать три пруда, два из которых находились в левой части, где впоследствии выросли торговые ряды. Постепенно пруды забросали барочными досками и всякой всячиной да и забыли о них; между тем вода, продолжавшая понемногу выступать из-под земли, не находя выхода, устремилась вниз и, скорее всего, по подземным трубам просочилась к углу Апраксина переулка, где неожиданно забила сильным ключом. Окрестный люд заволновался и пришел в изумление от столь необычного явления; пошли толки о некоем чудотворном источнике. Не говоря уж о простом народе, тут же уверовавшем в чудо, со всех сторон к нему начали съезжаться разряженные барыни в дорогих каретах, черпавшие чайничками грязную воду и, по словам очевидца, «мазавшие оною себе головы и другие части тела». В течение нескольких суток столпотворение на углу Апраксина переулка не прекращалось, так что полиции пришлось принять меры к тому, чтобы разрушить эту вонючую лечебницу…
К середине XIX века окончательно сложился характер плотной каменной застройки переулка, в основном трех- и четырехэтажной, густо заселенной купцами, мещанами и мастеровыми.
Любопытное описание Апраксина переулка, такого, каким он был более ста тридцати лет тому назад, дает обозреватель «Петербургского листка» за 1865 год в № 123: «Несмотря на небольшое протяжение, он принадлежит к числу самых многолюдных в городе; большинство обитателей составляет ремесленный класс, как-то: башмачники, сапожники, фуражечники, столяры и проч. Ежедневно массы прохожих с утра до вечера снуют по тротуарам и мостовым переулка; в праздники же количество прохожих увеличивается обитателями самого переулка, которые, собравшись в кучки и потолковав между собой, отправляются в ближайшее питейное заведение или трактир, и место их тотчас занимают другие. Количество трактиров, питейных и прочих торговых заведений в этом переулке соответствует количеству его населения; на протяжении каких-нибудь 180–200 сажен (400–450 метров. – А. И.), в двадцати домах, составляющих этот переулок, помещаются следующие торговые заведения: трактиров и гостиниц – 14; винных погребов, кабаков (первые, в сущности, отличаются от последних только виноградной кистью над входом) и портерных – 33; съестных и пирожных лавок – 8; мелочных и сливочных – 16. Кроме поименованных лавок и заведений есть еще много других, как-то: мясных, кожевенных, шпилечных, железных лавок, инструментальных мастерских и одна баня; перед каждым домом, у тротуаров, сидят женщины, продающие вареные и печеные яйца, картофель, треску, жареную салакушку, селедки, гнилые лимоны, подсолнечники и прочее. В разных местах стоят несколько торговцев, продающих с лотков печенку, рубцы и прочую мясную, самого низшего сорта пищу; все эти съестные припасы (большая часть которых весьма сомнительной свежести) распространяют в воздухе весьма неприятный запах (особенно в жаркие дни), но этот запах ничто в сравнении с атмосферою многих, так называемых задних, дворов; сии последние представляют из себя род помойных ям: везде грязь, нечистоты, зловоние; а между тем здесь живут сотни людей, принужденных вдыхать это зловоние и употреблять вышеупомянутую пищу».
Похоже, сегодняшнее поколение снова вернулось к состоянию первобытного капитализма, запечатленному автором приведенных строк; по крайней мере, сравнения напрашиваются сами собой. Того и гляди, вновь забьет «чудотворный источник» и ринутся толпы кропить себя грязной водой…
А теперь поговорим о столичных стражах порядка – будочниках, чьи фигуры были неотделимы от городского пейзажа того времени.
В полосатой будке у моста…
Архитектурный фон на литографии К.П. Беггрова по рисунку В. Форлопа с изображением перекрестка Невского проспекта и набережной реки Мойки изменился мало: дворцы А.С. Строганова и К.Г. Разумовского по левую сторону и дом Н.И. Чичерина по правую выглядят почти так же, как в 1820-х годах. Зато все остальное изменилось коренным образом, начиная от булыжной мостовой и кончая внешним обликом людей. Крупным планом представлена неизменная принадлежность тогдашней жизни – полосатая полицейская будка с двумя стражами порядка, один из которых держит длинную алебарду, – скорее символ власти, чем оружие.
О петербургских будочниках, прообразе будущих городовых и постовых, можно было бы написать целую книгу. Говоря современным языком, служба охраны правопорядка в начале XIX века находилась в далеко не блестящем состоянии, о чем свидетельствовали частые грабежи и драки. Ни ловить грабителей, ни разнимать дерущихся было некому: как пишет в своих «Записках» граф Е.Ф. Комаровский, обыватели посылали в будочники кого попало; при желании от этой повинности можно было откупиться, уплачивая по 9 рублей в месяц.
Однако сыскать добровольцев, готовых за такие деньги бессменно стоять на часах, в особенности в зимнюю стужу, не было никакой возможности, а посему будки сплошь и рядом оставались пустыми. Помимо прочих обязанностей, на будочников возложили еще одну: при возникновении пожара они должны были ходить с трещотками по улицам и созывать людей, выделенных домовладельцами для тушения огня. Все это, вместе взятое, не способствовало порядку в городе.

Мойка у Полицейского моста. Литография К.П. Беггрова по рисунку В. Форлопа
В 1811 году, по инициативе упомянутого мной графа Комаровского, Александр I издал указ о создании внутренней стражи – особого рода войск, набиравшихся по большей части из отставных солдат, предназначенных исключительно для несения караульной службы. Тогда-то и появились на городских улицах служивые с алебардами, несшие службу у своих будок и в них же проживавшие. Стало ли после этого в столице безопаснее? Судя по отзывам современников, ненамного. В памяти невольно оживает печальная история гоголевского Башмачкина, который в первый же вечер лишился новой шинели, прямо на глазах у безучастно наблюдавшего за этим караульного.
Вспоминая о петербургских мостах, один из современников не забыл упомянуть и будочников: «У мостов же обыкновенно воздвигались и будки, где доблестные стражи, лишенные уже алебард, отнятых у них в 1830-х годах, продолжали ревностно охранять самих себя, изредка забирая под гостеприимный кров уже чересчур подгулявших и расходившихся граждан».
Не обошел вниманием тогдашних стражей порядка и знаменитый юрист А.Ф. Кони. В своем очерке «Петербург. Воспоминания старожила» он пишет: «На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка – небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка – будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У будочника есть помощник, так называемый подчасок. Оба они ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться от ближайших окрестностей будки. Будочник – весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей».
Упоминаемый Кони широкий мост назывался Знаменским и был перекинут через засыпанный позднее Литовский канал. Чтобы закончить тему о мостах, а заодно показать, как нелегка была в России полицейская служба вообще и будочников в частности, приведу еще один отрывок, на сей раз из «Записок» весьма осведомленного в таких вопросах Е.Ф. Комаровского: «Во время командования моего петербургскою полициею я испросил высочайшее повеление, чтобы через мосты не позволено было скакать во всю прыть, ибо находил сие для мостов весьма вредным, особливо устроенных на плашкоутах (то есть наплавных. – А. И.), а чтобы ехали по оным маленькой рысью. О сей высочайшей воле объявлено было, с подпискою, всем обывателям петербургским, и на обоих концах и на средине мостов сначала поставлены были полицейские офицеры. Но до того доходило, что когда карета скакала на мост, то будочник старался ее остановить, и если в карете сидела почетная особа, то офицер подходил к ней и говорил учтивым образом, что по высочайшему повелению запрещено ездить так скоро по мостам. Некоторые из сих почетных особ доходили до того, что даже плевали в глаза офицерам с досады, что не позволяют им скакать как бешеным. Я всякий раз доводил сие до сведения государя; сим плевателям в глаза хотя и делаемы были выговоры, но офицер не менее был обесчещен».
С момента написания этих строк прошли годы и целые столетия, изменились экипажи, одежда и многое другое, но российская распущенность и недисциплинированность, увы, остались теми же!
Дом Н.И. Чичерина, о котором упоминалось выше, появился на Невской перспективе в конце 1760-х годов; ранее же здесь стоял деревянный Зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны, построенный в небывало короткий срок на месте сгоревшего в 1736 году Гостиного, или Мытного, двора.
«Достоин удивления…»
Двести пятьдесят лет тому назад Большая Невская перспектива, как назывался в ту пору Невский проспект, еще не ставший главной городской магистралью, обогатилась новым великолепным зданием – деревянным Зимним дворцом, чье изображение дошло до нас благодаря, в частности, известной гравюре Ф.Т. Внукова по рисунку М.И. Махаева. Главный дворцовый фасад простирался от набережной реки Мойки у Зеленого (позднее Полицейского) моста до Большой Луговой – нынешней Малой Морской улицы. Построенный в качестве временной императорской резиденции по проекту Бартоломео Растрелли, который одновременно возводил всем известный каменный Зимний дворец, он отличался таким же богатством наружной и внутренней отделки.
Позднее, перечисляя осуществленные им в течение многих лет постройки, сам зодчий напишет о своем произведении: «Это здание состоит более чем из 156 комнат, с каменными погребами, большой галереей в середине фасада, выходящего прямо на большой проспект… Все парадные апартаменты, приемные, Тронный зал, галерея и прочие были украшены лепным позолоченным орнаментом и несколькими плафонами, помещенными в главных апартаментах». Правда, повинуясь требованиям будущей хозяйки, архитектору пришлось значительно отступить от первоначального плана, в результате чего тот утратил прежнюю гармонию и логику, но делать было нечего. Дворец возвели в необычайно короткий срок, что не могло не вызвать всеобщего изумления.

Деревянный Зимний дворец. Гравюра XVIII в.
5 ноября 1755 года «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили своих читателей: «Прошедшего воскресения в 7-ом часу по полудни изволили Ее Императорское Величество из Летнего дворца перейти в новопостроенный на Невской перспективе деревянный зимний дворец, который не токмо по внутреннему украшению и числу покоев и зал, коих находится более ста, но и особливо потому достоин удивления, что с начала нынешней весны и так не более, как в шесть месяцев, с фундаментом построен и отделан».
6 января следующего года, в праздник Богоявления, на реке Мойке, напротив окон нового царского жилища, впервые была поставлена Иордань и, по словам очевидца, «от церкви Казанской Богоматери приходили с крестами, а полки у дворца и по берегам оной реки с обеих сторон стояли». Императрица Елизавета Петровна полюбила новый дворец, в котором ей суждено было шесть лет спустя окончить свои дни. О ее смерти ходили разные слухи: некоторые считали, что государыню отравили по приказу прусского короля, поставленного победоносными русскими войсками в ходе Семилетней войны в безвыходное положение…
Как и многие обыкновенные женщины-дворянки того времени, государыня любила проводить свой досуг сидя у окна и наблюдая за разворачивавшимися перед ее глазами сценами городской жизни. В один прекрасный день она заметила, что от парадного подъезда ее соседа, молодого барона А.С. Строганова, чей недавно выстроенный дом находился на противоположном берегу Мойки, протянулась странная процессия: в центре ее, с трудом передвигая ноги, шествовал фельдмаршал граф П.С. Салтыков, заботливо поддерживаемый двумя солдатами, а позади него другие служивые таким же манером вели самого Строганова и еще нескольких известных вельмож.

Маскарад в деревянном Зимнем дворце. Гравюра XVIII в.
Заинтересовавшись столь необычным зрелищем, Елизавета послала узнать, в чем дело и куда их ведут. Выяснилось, что собравшееся в тот день у гостеприимного барона общество, вдоволь угостившись старым венгерским вином из хозяйских запасов, решило отведать сего напитка уже из салтыковских погребов, чтобы, оценив его качество и крепость, решить, чье лучше. Для этого оно и направилось в дом графа, расположенный неподалеку. Сжалившаяся над ослабевшими путниками императрица решила положить конец их странствованиям, пригласив всех к себе во дворец и предложив попробовать своего вина, которое, по ее уверению, было лучше салтыковского…
Перемена жилья оказалась на пользу и великой княгине Екатерине Алексеевне, будущей Екатерине II. В своих «Записках» она упоминает о том, что особенно была поражена красотой, высотой и размерами отведенных ей покоев. Немалым достоинством в глазах великой княгини являлась также их удаленность от комнат ненавистного супруга, что позволяло ей, переодевшись в мужское платье и убрав волосы под шляпу, совершать при содействии камер-юнкера Льва Нарышкина ночные вылазки в город, к друзьям.
Екатерина проделывала это многократно, всякий раз оставаясь незамеченной, хотя, по свидетельству одного иностранного автора, «Зимний дворец, в котором они живут восемь месяцев в году, имеет вид огромной деревянной клетки. Он весь сквозной, так что ни войти в него, ни выйти из него нельзя иначе как чтобы все видели». Одна из ее поездок в дом Нарышкиных ознаменовалась знакомством с молодым секретарем английского посольства Станиславом Понятовским, вскоре перешедшим в бурный роман.
28 июня 1762 года великая княгиня Екатерина Алексеевна была провозглашена императрицей. На совещании с участниками заговора, состоявшемся в деревянном Зимнем дворце, было принято окончательное решение выступить с преданными ей гвардейскими полками походом в Петергоф, где в ту пору находился Петр III, чтобы добиться его отречения от престола. В дворцовой церкви сенаторы, члены Синода и все присутствовавшие вельможи присягнули ей. При этом не обошлось без курьезов. По свидетельству Н.И. Панина, «все вельможи были пожалованы сенаторами (вот почему в настоящее время в России так многочислен состав Сената); их держали в безпрерывном сборе во дворце под предлогом подписи разных подлежащих обнародованию распоряжений». Вслед за тем новопровозглашенная императрица вновь облеклась в мужскую одежду, но на сей раз в гвардейскую форму, с Андреевской лентой через плечо.
Переворот осуществился без сучка без задоринки, и в скором времени отстраненный от власти государь скончался, как значилось в обнародованном манифесте, от «прежестокой колики», в действительности же задушенный могучими руками бывшего лейб-кампанца Александра Шванвица, воспользовавшегося для этого ружейным ремнем. Примечательный факт: сын этого Шванвица впоследствии сделался деятельным помощником Емельяна Пугачева!
После воцарения Екатерины II пришедший в запустение деревянный Зимний дворец, в коем уже отпала надобность, стал быстро ветшать и разрушаться. Вдобавок он, по всей вероятности, пробуждал у новой императрицы тягостные воспоминания о той малоприятной роли, какую ей скрепя сердце приходилось играть при дворе покойной государыни. Началось расхищение не только внутреннего убранства, но и конструктивных элементов обезлюдевших чертогов. Новые приближенные и фавориты пожелали получить при этом свою долю. Так, роскошный живописный плафон, написанный по эскизам знаменитого Д. Валериани, понадобился графу А.Г. Орлову, пожелавшему также взять окна, двери и резные детали Тронного зала, а для З.Г. Чернышева содрали с крыш все железо, вынули из окон стекла, разобрали и вывезли изразцовые печи.
В 1767 году деревянный дворец на Невской перспективе (или, вернее сказать, то, что от него осталось) перестал существовать. 15 мая «Санкт-Петербургские ведомости», некогда восхищавшиеся этой постройкой, сообщили об ее окончательном уничтожении: «Оставшегося от разломки Зимнего деревянного дому немалое число мелкого щебню и всякого грузу, которой канцелярия строения Е. И. В. домов и садов отдавать будет безденежно, желающие брать, явиться могут в Гоф-Интендантской конторе немедленно». На следующий год генерал-полицмейстер Н.И. Чичерин приступил к возведению на освободившемся месте ныне существующего дома, постепенно вытеснившего из памяти горожан прежнее царское жилище…
Интересно бывает из сегодня взглянуть в далекое прошлое, чтобы сравнить «век нынешний и век минувший». Что веселило наших предков, привлекало их внимание? Конечно, характер развлечений зависел и от достатка зрителей, поэтому сразу оговорюсь, что речь пойдет о зрелищах для петербуржцев, готовых оплачивать свои увеселения. О том, насколько они были изысканны, пусть судит сам читатель.
Глава 2
Зрелища и увеселения
«Великанка Гаук» и музыка Баха
Перелистаем страницы «Санкт-Петербургских ведомостей» начиная, скажем, с 1730-х годов и выберем наиболее характерные объявления. Одно из них, относящееся к ноябрю 1738-го, оповещает: «Прибывшие сюда из Голандии комедианты, которые по веревкам ходя танцуют, на воздухе прыгают, на лестнице ни за что не держась в скрыпку играют, с лестницею ходя пляшут, безмерно высоко скачут и другие удивительные вещи делают, получили от двора позволение в летнем Ее Императорского Величества доме, на театре игру и действия свои отправлять…Цена смотрельщикам положена с первых мест по 50 коп., с других по 25, а с третьих мест по 10 коп. с человека».
Необычность зрелища, по-видимому, и побудила императрицу Анну Иоанновну предоставить для него свой деревянный дворец в Летнем саду, построенный В. Растрелли в 1732 году. Пожалуй, это была первая труппа гастролеров в Петербурге и первое публичное представление, доступное для всех желающих и могущих уплатить требуемую сумму. Отметим, что месячный заработок первоклассного плотника составлял в ту пору 4 рубля, а фунт говядины стоил 3 копейки.
Спустя пять лет Петербург навестили актеры-кукольни-ки, о чем любители театральных представлений узнали из следующего объявления: «Чрез сие чинится известно, что находящийся здесь комедиант Мартин Ниренбах… продолжать имеет марионеттовы Итальянские комедии, сперва фигурами, а потом живыми персонами, так что смотрители наконец великое удовольствие из того получить могут». Так впервые столичная публика познакомилась с комедией дель арте. Трудно сказать, получила ли она при этом обещанное «великое удовольствие», но надо полагать, что такого рода спектакли были делом неубыточным, поскольку примерно тогда же на углу Большой Морской улицы и Адмиралтейской перспективы (позднейшая Гороховая) было выстроено каменное здание «Немецкого комедиального дома», предназначенного для подобных зрелищ.
Несколько позже, в 1750-м, на Царицыном лугу появился деревянный театр, сооруженный также по проекту Растрелли. О характере дававшихся там представлений можно судить по объявлению, опубликованному в августе 1758 года: «Сего месяца 30 числа… на Императорском театре близ летнего саду представлена быть имеет новая Пантомима, называемая: „Отец солюбовник сыну своему, или Обвороженная табакерка"».
Тот, кто не желал или не имел возможности смотреть пантомимы «на Императорском театре», мог выбрать зрелище попроще: «Прибывший сюда фигляр венгерец, Венцель Мейер, между прочими своими фиглярствами делает одною шляпою 48 разных перемен, как носят разные народы». И неприхотливый зритель охотно шел смотреть «фиглярства» заезжего «венгерца».
Известный в 1760—1770-х годах театр в доме графа Ягужинского, находившийся на нынешней Почтамтской улице (участок № 14/5), предлагал своим посетителям услуги другого виртуоза: «Как известный англичанин Сандер… искусство свое уже оказал при здешнем дворе знатному дворянству, почтенному купечеству и публике, то паки намерен он в наступающее воскресение показывать разные достойные зрения на проволоке равновесия, також и другие забавы, как по веревке плясать, ломаться, прыгать и порхать». Стоили эти ломания и порхания недешево: за ложу брали 1 рубль, а за партер – 50 копеек. Замечательно, как артист определяет круг лиц, которому адресовано его искусство: дворянство, купечество и просто «публика». Очевидно, к последней категории причислялись мещане.
Среди всех этих канатных плясунов, фигляров и комедиантов встречаются исключительно иностранные фамилии; объясняется это тем, что русский театр делал в то время лишь первые шаги, отечественные же скоморохи, потешавшие люд честной на площадях, не сообщали печатно о своих выступлениях. Любопытно, что даже объявления о серьезных музыкальных концертах, на которых звучала музыка Баха и исполнялись итальянские арии, заканчивались подчас такими странными для нас словами: «…Девица Гаук ласкает себя (то есть льстит надеждой. – А. И.), что любители музыки удостоят ее своего присутствия, ибо никогда не видывали еще на театре женщины ее величины». Пристрастие к чисто балаганным эффектам уживалось с искренней любовью к искусству даже у просвещенных зрителей того времени.
Менее же образованная и утонченная публика, оставляя меломанам наслаждаться музыкой Баха в исполнении «великанки девицы Гаук», валом валила на представления вроде нижеследующего: «…де Дилли, сильно раненный американский офицер, будет иметь честь сего 13 генваря (1786 г.) представить на малом театре разные, отчасти еще невиданные танцы на одной ноге, со столь многими каприолами, сколько танцмейстер на одной ноге произвести может…4 танца будет он делать без костыля». И вот офицер, возможно потерявший ногу в Войне за независимость Соединенных Штатов, скачет на одной ноге, изображая веселый танец, а зрители с интересом следят за этим зрелищем, загадывая, упадет он или нет. Таковы были нравы!
По случаю открытия в 1793 году при доме Л.А. Нарышкина первого в Петербурге увеселительного сада (современный адрес – наб. р. Мойки, 108) «фехтмейстер Мире», один из лучших тогдашних режиссеров, устроил в садовом театре «большое пантоминное зрелище… названное: Путешествие Капитана Кука в неизвестные острова и празднество тамошних Индианцов». Было обещано, что «отменные декорации, походы, оружейные упражнения, битвы… странные одежды и пляски диких жителей купно с огромною музыкою, пленяя зрение и слух, соделают удовольствие посетителей совершенным».
И еще об одном зрелище, пользующемся успехом и в наше время, – кабинетах восковых фигур. Впервые такой кабинет открылся в конце 1792 года в доме генерала Бороздина на Невском проспекте (дом № 52). В нем было представлено «более 50 фигур, сделанные из воску гг. Морелем и Гереном, недавно приехавшими французскими художниками. Оные фигуры представляют разных знатных особ в натуральной величине и приличной одежде».
Зрелище имело успех и демонстрировалось в различных залах в течение нескольких лет. Лишь в начале 1796-го появилось объявление о том, что «Кабинет восковых фигур, изображающих великих Монархов и славнейших Ироев, показывается в последний раз нынешнюю неделю». В завершение следовала лукавая фраза, столь характерная для того времени, гласившая, что «за вход знатные господа платят по соизволению, а прочие по 25 копеек». Очевидно, знатные господа не желали, чтобы их смешивали с «прочими», из чего заинтересованные лица извлекали немалую выгоду, теша барскую спесь.