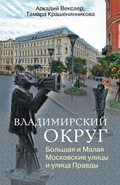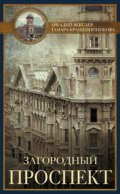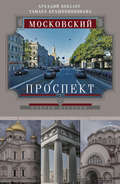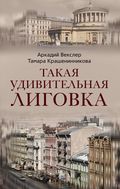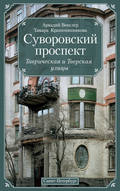Тамара Крашенинникова
Владимирский проспект

© Векслер А.Ф., Крашенинникова Т.Я., 2010
© ООО «МиМ-Дельта», 2010
© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2010
Введение
Как кратчайший путь из центра города, от Невского проспекта к Московскому, как единая магистраль длиной в 2,5 км воспринимаются ныне Владимирский и Загородный проспекты. Действительно, дорога по Лиговскому проспекту в том же направлении составляет 5,5 км, по Садовой или по набережной Фонтанки – более 3,5 км. И хотя ныне автомобилисты для выезда из центра города на южные или на юго-западные трассы предпочтут более длинные и менее загруженные транспортом пути, знатоки города не откажут себе в удовольствии проехать или, тем более, в несколько приемов пройти по Владимирскому и Загородному проспектам с их рядовой архитектурой и далеко не рядовой историей, обязанной людям, жившими, учившимися и трудившимися здесь.
Владимирский и Загородный проспекты, повторяя плавный изгиб Фонтанки, вместе с набережной ее левого берега составляли главную магистраль Московской части1 Санкт-Петербурга, обеспечивавшую наиболее короткий путь из центра города в южном направлении.
Московская часть, название которой впервые появилось на планах города 1726–1741 гг., заменив ранее существовавшее название «Московская сторона», остававшееся, впрочем, на городских планах еще до 1753 г.2, бывшая некогда окраиной города, приобрела к концу XIX в. облик, сблизивший ее с прежними центральными частями Санкт-Петербурга.
На площади 3,5 кв. км в Московской части по переписи 1900 г. проживало 126 тысяч человек, т. е. в начале XX в. она была одной из густонаселенных частей Петербурга, что вызывало высокую стоимость земельных участков (до 320 руб. за кв. сажень на застроенной территории и до 70 руб. на незастроенной, принадлежавшей городу, военному ведомству или отчужденной в пользу Царскосельской железной дороги). По стоимости земли Московская часть уступала только Адмиралтейской и Спасской частям. Цены на недвижимость сильно различались в зависимости от расположения участка: максимальная цена на Невском и Владимирском проспектах, у Пяти углов, Николаевской и Стремянной улицах, ниже были цены за Разъезжей и вблизи Лиговской улиц.
Территориальная структура и структура населения Московской части, сложившиеся к началу XIX в., определялись тем обстоятельством, что в нее входили обширные Дворцовые (или Придворные) и Ямская слободы на территории от Невского проспекта за Разъезжую улицу и слободы лейб-гвардии Егерского, Московского и Семеновского полков на территории от Звенигородской улицы до Забалканского проспекта. Начало Дворцовым слободам положила Анна Иоанновна: после пожаров 1730-х гг. она учредила Комиссию о Санкт-Петербургском строении и приняла предложенный главным архитектором комиссии П.М. Еропкиным план развития города, по которому территория на левом берегу реки Фонтанки за загородными дачами петербургской знати отводилась придворному ведомству для размещения участков низших служащих ведомства – лакеев, поваров, каретников, конюхов, портных и др. Дворцовая слобода в Московской части располагалась на территории современных Стремянной улицы, Кузнечного переулка и Владимирской площади, а нынешний Владимирский проспект составлял границу между слободой и дачными землями, о которых сегодня напоминает название Графского переулка, ведущего от берега Фонтанки к Владимирскому проспекту (за свою долгую историю он назывался и Троицким, и Графским (Московским), и Пролетарским, и даже улицей Марии Ульяновой, а в 1991 г. вновь получил название, которое носил с 1798 г. по титулу домовладельца графа Ф.А. Головина).
Слобода около века оставалась деревянной и не раз горела, пока во второй половине XIX в. деревянные постройки не стали вытесняться каменными. Это было вызвано запретом на строительство деревянных домов. С 1854 г. запрет распространен на всю левобережную часть города вплоть до Обводного канала. Изданный в 1849 г. «Атлас 13-ти частей столицы» («Атлас Цылова») зафиксировал достаточно плотную, преимущественно каменную застройку по основным проездам Московской части, в том числе и в Дворцовой слободе. После пожаров 1862 г., когда сгорели почти все деревянные дома, Московская часть быстро застраивалась доходными домами, рассчитанными как на «средний класс», так и на малоимущих жильцов. Собственные дома богатых купцов и первых чинов ведомств выходили на Владимирскую улицу и Невский проспект. Дома попроще строились в глубине кварталов, где обитала самая пестрая публика: зажиточные купцы и домовладельцы, ремесленники и лавочники, военные, студенты, служащие. «Трактиры, вывески менял и „Пышные гробы – Шумилов-старший“, все разночинно, наспех, как-нибудь», – писала А.А. Ахматова о Загородном проспекте начала XX в.
Московская часть делилась на четыре полицейских участка, имевших границами Невский проспект: Кузнечный и Щербаков переулки – 1-й участок, далее до Разъезжей улицы и Чернышева переулка следовал 2-й участок, затем до Введенского канала – 3-й участок и от канала до Забалканского проспекта – 4-й.

Московская часть. План 1912 г.
В постройках на Владимирском проспекте (их количество чуть более двадцати) представлены практически все петербургские архитектурные стили, включая классицизм, в том числе и безордерный, и эклектику, и модерн, и агрессивный современный стиль. Из старых мастеров здесь работали Пьетро Антонио Трезини и Джакомо Кваренги, Н.А. Мыльников и А.А. Михайлов-второй, А.Х. Пель, П.Ю. Сюзор, А.С. Хренов. Знатоки модерна найдут на Владимирском единственную петербургскую постройку финского зодчего К.-А. Шульмана, положившую начало проникновению в наш город северного модерна.
Вблизи Владимирского проспекта в разные годы жили государственные деятели граф М.Т. Лорис-Меликов и А.П. Нарышкин (1840-е гг.; их дом на углу Стремянной ул. и Поварского пер. не сохранился), писатель Николай Алексеевич Некрасов (угол Поварского пер. и Колокольной ул.), литературовед и этнограф Александр Николаевич Пыпин (Хлебный пер. у Владимирской пл.), хирург Николай Васильевич Склифосовский (Стремянная ул., 8), издатель Петр Петрович Сойкин (Стремянная ул., 12), председатель Российского общества морского права Егор Егорович Стеблин-Каменский (жил на Стремянной ул., 8, с 1913 по 1935 г.). В доме № 8 жили члены артистической династии Самойловых. Ее основатель Василий Михайлович Самойлов (1782–1839) обладал чудесным тенором и пел в московских церквах. Директор Императорских театров А.С. Нарышкин пригласил его на столичную сцену. На дебютном спектакле в 1803 г. Самойлов исполнил дуэт в водевиле А. Титова «Суд царя Соломона» с юной воспитанницей Театральной школы Верой Черниковой. Дуэт прозвучал так прелестно и слаженно, что имел долгое и счастливое продолжение – исполнители стали супругами. С театром связали свою жизнь многие из их одиннадцати детей. Драматическими актерами стали Василий, Вера, Надежда, Мария и Петр Самойловы. Из них наиболее известен В.В. Самойлов (1812–1887), а его сын Павел (1866–1931) стал заслуженным артистом РСФСР. Из этой семьи вышла и Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова (1866–1948). Все Самойловы играли в Александрийском (Пушкинском) театре. На доме Самойловых установлена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь жил и 28 марта 1887 г. скончался драматический артист В.В. Самойлов. В 1994 г. доска была обновлена, а в доме открыт мемориальный музей семьи Самойловых. В 1920-х гг. в этом доме жил писатель Константин Александрович Федин.
Прямым продолжением Владимирского проспекта служит Большая Московская улица, и авторы сочли необходимым посвятить истории этой улицы и ее обитателям короткую заключительную главу книги.
С Владимирским проспектом и Большой Московской улицей связаны жизнь и деятельность выдающихся мастеров советского и современного российского театра и эстрады – драматургов, режиссеров и актеров Ленинградского Нового театра (с 1953 г. – Театра им. Ленсовета, ныне – Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета), Театра юных зрителей, создателей и участников джаз-клуба «Филармония джазовой музыки».
Рассказы о живших на Владимирском проспекте и Большой Московской улице деятелях науки и культуры, общественных и военных деятелях читатель найдет на страницах книги с изложением истории отдельных домов. Биографии людей, чьи судьбы связаны с центральной магистралью Московской части, найдены нами в Русском биографическом словаре, Большой Русской биографической энциклопедии и в изданиях о них, хранящихся в Русском фонде Российской национальной библиотеки. Некоторые биографии восстановлены по воспоминаниям современников и литературным трудам персонажей и публикуются впервые.
Владимирский проспект (до 1858 г. – часть Литейного проспекта, в 1919–1944 гг. – пр. Нахимсона) – проезд между Невским проспектом и Владимирской площадью. Впервые как самостоятельный проезд Владимирская улица появилась на планах города в 1764 г., названная по церкви Владимирской иконы Божией Матери (Владимирской церкви); как проспект проезд появился на городских планах после 1860 г.; площадь перед церковью носит название Владимирской с 1844 г. (с 6 октября 1923 по 10 июля 1950 г. именовалась площадью Нахимсона)3.
Один из южных перекрестков Невского и Литейного проспектов (ныне – начало Владимирского пр.) в XVIII в. носил название Вшивой биржи. Как писал П.Н. Столпянский, тут ожидали найма на работы дрягили и носильщики, сюда же приходил и уличный парикмахер. Он сажал своих клиентов на тротуарную тумбу, падавшие на тротуар волосы не убирались, отчего народ и дал этому месту столь неблагозвучное, но очень точное название4. Словно в память о Вшивой бирже в 1900-х гг. в доме № 1/47 заработала парикмахерская Никифора Мокреева.
До введения в 1855 г. современной четности сторон улиц и нумерации домов Владимирский проспект служил продолжением Литейного, что отражено в приведенном ниже списке домовладельцев из Адресной книги Санкт-Петербурга на 1854 г.:

После 1855 г. дома №№ 60–82 получили номера 1—23, а дома №№ 63–79, соответственно, 2—18.
Доходные дома Владимирского проспекта интересны, как правило, не архитектурой (здесь все определялось вкусом, кошельком и пристрастиями домовладельцев), а вкладом когда-то живших в них людей в культурное и историческое наследие России.
Особенностью проспекта было широкое распространение книжной торговли. Букинисты раскладывали привезенные книги на невысоком парапете сада Владимирской церкви (эта стихийная продажа возобновилась в 1990-х гг.).
В разные годы в домах Владимирского проспекта жили или бывали многие писатели, композиторы и другие известные деятели русской культуры, а на углу Кузнечного переулка и Владимирской площади находился трактир «Капернаум» (по одной из версий, название придумал его завсегдатай писатель В.А. Слепцов), своеобразный «литературный ресторан», куда приходили позавтракать и обменяться мнениями писатели и литературные критики. Название трактира, расположенного вблизи храма, с точки зрения Церкви, было богохульным, ведь Капернаум – название древнего города в Галилее, где, по преданию, Христос творил чудеса и, в частности, исцелял больных святой водой. Исцеление водкой душевных страданий происходило во многих трактирчиках и ресторанах Петербурга, да и других городов, и со временем слово «Капернаум» стало скорее синонимом веселого заведения, кабака, чем одной из глав Евангелия. Отсюда фамилия Капернаумов (Копернаумов) в фельетонах А.В. Дружинина, а также фамилия портного Капернаумова в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского5. Отсюда же, видимо, и фамилия Кафернаумский в романе А.И. Герцена «Кто виноват?», и персонаж, к которому обращается Н.А. Некрасов в своем стихотворении «Другу Копернаумову». Свои «Капернаумы» появились в приволжских купеческих городах и даже придорожный трактир с постоялым двором в селе Елизаветино Петербургской губернии владелец назвал так же!
Впрочем, название «Капернаум» в 1880-х гг. перекочевало с Владимирской площади в дом № 7 по Владимирской улице, хотя собиравшиеся теперь там литераторы чаще называли трактир по фамилии владельца – «У Давыдки».
Приложение содержит данные о жителях Владимирского проспекта из архивных документов, адресных книг и Петербургского некрополя, ограниченные, как правило, только их именами, отчествами, фамилиями и профессиями и (или) чинами, в надежде на помощь читателей в дальнейшем поиске более подробных сведений о них.
Часть первая
Нечетная сторона
Дом № 1 ⁄ Невский проспект, 47
Построенным в начале XIX в. двухэтажным домом № 60/44 на углу Литейного и Невского проспектов, как и соседним (№ 42/1 на углу Невского пр. и Троицкого пер.), владел купец Николай Степанович Паской-Шарапов (ему принадлежал и дом на углу Большой Садовой ул. и Невского пр., рядом с Пассажем).

Владимирский проспект, д. 1
В 1867 г. дома числились, соответственно, под № 1/45 по Владимирской улице и Невскому проспекту, № 43/2 по Невскому проспекту и Троицкому переулку (ныне дома № 1/47 по Владимирскому и Невскому пр., № 45/2 по Невскому пр. и ул. Рубинштейна). Оба дома занимали участок площадью около 1000 кв. саженей, плотно застроенный жилыми одно-, двухэтажными флигелями и службами. Архитектор А.И. Климов писал в докладной записке Кредитному обществу, которое решало вопрос о выдаче долговременной ссуды владельцам, что «все строения старой постройки прочны, имеют чистую обыкновенную отделку. Во двор дома проведена вода и несколько помещений освещены газом. Дом по выгодности своего места, особенно угловой по Невскому проспекту, занят в изобилии торговыми помещениями». Здесь располагались колбасные, фруктовые, винные, пивные лавки, а также магазин серебряных изделий, меняльная лавка, магазины перчаточный и швейных изделий, магазин мраморных изделий и парикмахерская.
Дома населяли весьма разнообразные по сословию и своему статусу люди.
В доме на Невском жили: датский подданный Карл Зернсен (содержал колбасную лавку), саксонский подданный Генрих (Александр Иванович) Траншель (содержал типографию и литографию), капитан 2-го ранга Ратьков-Рожнов (муж дочери домовладельца), мещанка Анна Ивановна Немирова (содержала магазин ниток).
В доме по Владимирскому проспекту помещения снимали: временный петербургский купец М. Киселев, тот же К. Зернсен; на втором этаже рядом с квартирой надворного (позже – тайного) советника Аскалона Николаевича Труворова действовало учреждение «Перевозчик для транспортирования кладей», занимая три комнаты с видом на Невский проспект. Генрих Траншель в одиннадцати комнатах «над сводами по Владимирскому проспекту» разместил типографию и литографию и в пяти комнатах – свою семью. Надворный флигель по Владимирскому проспекту арендовал прусский подданный Роберт Фридрихович Дюнтс. Механик, водо- и газопроводчик, он организовал мастерскую в десяти комнатах над воротами по Владимирскому проспекту со складом для материалов.
Дом по Троицкому переулку был записан на жену Н.С. Паскова-Шарапова Анну Павловну Паскую (1821–1875), и она жила здесь, уже будучи вдовой, «…с семьей, занима[я] весь этаж над магазинами, причем пять комнат выходят окнами на улицу, а три – во двор с парадным и черным входами». В верхних этажах квартируют мекленбургский подданный Карл Иванович Брандт (он содержал торговлю золотыми и серебряными вещами в доме № 3 по Владимирскому пр.), дворянин Галашевский, мещанин Д.К. Сутугин, разделяя этаж с домовым приказчиком Захарченко. В нижнем этаже этого дома купец 1-й гильдии Александр Федорович Штритер содержал винный магазин и комнату во дворе «для складирования и продажи на вынос водки и ликеров». После смерти А.П. Паской дом приобрел полковник Илья Ростовцев, и в 1875–1877 гг. архитектор А.Л. Гун перестроил дом для сына прежнего владельца генерал-майора Ильи Ильича Ростовцева (1828–1900). Дальнейшую историю этого дома читатель найдет в книгах о Невском проспекте6.

А.Н. Труворов
Наиболее известен из обитателей домовладения Пасковых 1860—1870-х гг. ученый-археограф Аскалон Николаевич Труворов.
А.Н. Труворов (1819–1896) родился в селе Никольском Кузнецкого уезда Саратовской губернии и рано занялся самообразованием. С особенной любовью он занимался рисованием и в 12-летнем возрасте был отправлен в Москву для усовершенствования. Здесь он посещал Московские художественные классы (ныне – Училище живописи, ваяния и зодчества), а затем в Строгановском училище технического рисования изучал черчение. Не имея средств к существованию в Москве, он уехал на родину и в марте 1843 г. поступил в Кузнецкое уездное училище учителем рисования и черчения по диплому, выданному Императорской Академией художеств. Продолжая самообразование, в декабре 1847 г. блестяще выдержал экзамен при Казанском университете по общеспециальному испытанию в науках и был переведен учителем русского языка в Сердобское уездное училище. В ноябре 1855 г. А.Н. Труворова избрали дворянским заседателем в сердобский уездный суд. Трехлетняя служба в Сердобске в качестве уездного судьи обстоятельно познакомила Аскалона Николаевича с дореформенным судопроизводством, отчасти сходным с делопроизводством московских приказов конца XVII в. Эта служба оказала Труворову важную услугу впоследствии, когда в 1883 г. Археографическая комиссия поручила ему исполнить повеление императора Николая Павловича, данное еще в 1843 г., о выпуске в свет материалов уцелевшего в старинной письменности политического процесса о злоумышлениях окольничего и начальника Стрелецкого приказа Федора Шакловитого. Этот судебный процесс состоялся в 1689 г. в приказе розыскных дел, и без знакомства с дореформенным судопроизводством нельзя было привести в систематический порядок разрозненные, перепутанные и разорванные свитки и листы, а тем более издать их по существовавшей в конце XVII в. форме в виде листов, склеенных в столбцы.
Находясь на службе в Сердобске, А.Н. Труворов познакомился с Н.В. Калачовым, который посоветовал Аскалону Николаевичу писать корреспонденции в «Московские ведомости», а его статью о свадебных обрядах крестьян Сердобского уезда напечатал в издававшемся тогда «Архиве историко-юридических сведений, относящихся до России» (1861 г.).
С 1858 г. А.Н. Труворов жил в Петербурге, участвуя в трудах Археографической комиссии, сначала как сотрудник, а с 1870 г. – как член; с 1865 г. по приглашению графа Д.А. Толстого занимался в синодальном архиве вместе с членами комиссии, высочайше учрежденной 6 декабря 1865 г., и состоял редактором «Полного Собрания постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи». Археологический институт избрал его в 1885 г. в свои почетные члены, а в 1891 г., после смерти И.Е. Андреевского, единогласно – директором института. При его управлении в институте начали работать профессорами археолог Н.П. Веселовский, палеограф А.И. Соболевский, специалист по древней географии С.М. Середонин, значительно увеличилось количество слушателей. К началу 1880-х гг. круг предметов, преподаваемых в институте, стал шире, чем в Ecole des Chartes, послужившей его прообразом. Кроме упомянутой публикации материалов процесса Федора Шакловитого А.Н. Труворов – автор многочисленных статей в ежедневных газетах «Северная пчела», «Биржевые ведомости», «Акционер», «Голос» и др., в журналах «Юридический вестник», «Русский архив», «Исторический вестник», «Русская старина», «Вестник археологии и истории», «Архив исторических и практических сведений», «Север»7. Последние годы жизни он провел с женой Любовью Николаевной в собственном доме на набережной реки Средней Невки (ныне – наб. Мартынова, 70–72), построенном архитектором В.Р. Руктешелем в 1893 г. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры.
При стоимости домовладения в 600 тысяч рублей доход составлял примерно 60 тысяч в год, что соответствовало обычной для домовладений, расположенных в центре города, того времени 10-процентной годовой прибыли.
С 1872 г. в типографии Траншеля печатался журнал «Гражданин», редактором которого был Федор Михайлович Достоевский, приглашенный князем В.П. Мещерским, незадолго до того получившим разрешение на издание еженедельного журнала и собиравшимся выпускать приложением к нему сборники художественных произведений. Метранпаж типографии М.А. Александров вспоминал: «О вступлении Федора Михайловича в это редакторство издатель „Гражданина" оповестил читателей неожиданно и, для того времени, несколько оригинально. В последнем номере „Гражданина" за 1872 год, от 25-го декабря, обычное место передовой статьи, на 2-й странице, явилось занятым следующим лаконическим извещением, напечатанным крупным шрифтом во всю довольно объемистую страницу журнала: „С 1-го января 1873 года редактором журнала „Гражданин" будет Ф.М. Достоевский».

Ф.М. Достоевский
Работавшая с Достоевским корректором В.В. Тимофеева вспоминала: «Дом, где помещалась типография Траншеля (теперь ресторан «Палкин»), тогда перестраивался, и лестницы уже не было. И Федора Михайловича и меня спускали и поднимали тогда рабочие на руках. И однажды ночью, спускаясь таким образом, с фонарями и на руках, я увидела на тротуаре толпу любопытных, которые с волнением спрашивали друг у друга: „Что это значит? Похищение, что ли? Или пожар?“ – „Никакого пожара нет, – отвечали рабочие, – барышня здесь газету печатает…“».
Тогда же в типографии произошла встреча Достоевского с Алексеем Феофилактовичем Писемским.
«Когда в очередной свой приезд в Петербург Писемский появился в типографии Траншеля, где печатался журнал, с тем, чтобы надиктовать кое-какие вставки в готовую корректуру „Подкопов“, он увидел возле окна знакомую фигуру – характерно ссутуленная спина, мешковато сидящий сюртук, голова, как бы несколько втянутая в плечи, – продолжала свои воспоминания В.В. Тимофеева. – Давно они не виделись вот так, tete-a-tete. Встречались больше в многолюдных местах, поговорить не удавалось. В тот раз они просидели долго – Федор Михайлович говорил о задуманном им „Дневнике писателя“, о том, что силы художественного слова недостаточно, надо прямо заявлять о своих взглядах, смело идти в публицистику – писатель на Руси всегда воспринимался как пророк. Алексей Феофилактович сокрушенно качал головой – это не для него, попробовал раз да оконфузился. Нет, его заботит сейчас другое: он видит, как на страну надвигается страшная, разрушительная сила – служитель золотого тельца… Да-да, – подхватил Достоевский, это и его волнует, это, может быть, главная сейчас опасность для России. Он вот-вот закончит новый роман „Бесы“, в котором доскажет все, что не досказал в других своих книгах о нигилизме, и тогда уж непременно возьмется за новоявленных Ротшильдов, денно и нощно грезящих миллионом. Но ведь такой роман уже написан, – заметил Писемский, – это „Преступление и наказание*4… Нет, там он только „застолбил“ тему денег, тему наполеона на мешке с золотом… Алексей Феофилактович сказал, что и сам начал работу над романом, думает назвать его „Мещане“. Как раз на этих днях он собирался почитать первые главы у Кашпиревых. Если Федор Михайлович приедет к Василию Владимировичу, он, Писемский, будет ему весьма признателен, особенно если редактор достопочтенного „Гражданина“ выскажется по поводу услышанного…»8.

А.Ф. Писемский
Ныне в помещениях типографии размещается Морская аптека.
В 1872 г. многочисленное семейство наследников Н.С. Ласкова продало домовладение петербургскому купцу 1-й гильдии Константину Павловичу Палкину. Новый хозяин занялся перестройкой имения, и уже через два года над угловым домом надстраивается третий и четвертый этажи, а на месте одноэтажных возведены три трехэтажных надворных флигеля9. Здание решено единым объемом с ровным шагом окон. Корпус ресторана был сооружен во дворе. Эти работы в 1873–1874 гг. выполнил архитектор А.К. Крейзер10.
В 1874 г. сюда из дома напротив (с четной стороны Невского пр.) переехал ресторан «Палкин», знаменитый лучшей русской кухней. В народе ресторан часто называли по имени его владельца – «Старый Палкин».
Коммерции советник Константин Павлович Палкин (1820–1886) был представителем четвертого поколения династии трактирщиков, берущей начало от ярославского крестьянина Анисима Палкина (первый трактир в Петербурге Палкины открыли еще в 1785 г.). В «Старом Палкине» бывали многие знаменитости. Как завсегдатаев здесь можно было встретить актера В.А. Каратыгина, А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, известного юриста А.Ф. Кони, В. Брюсова, А. Блока… Известно, что в январе 1889 г. тут обедал П.И. Чайковский с А.К. Глазуновым и Н.А. Римским-Корсаковым.
В 1880 г. ресторан был сдан в аренду купцу Василию Ионовичу Соловьеву, владельцу гастрономического магазина в этом же доме. В 1886 г., после смерти К.П. Палкина Соловьев стал владельцем ресторана, приумножил его славу, введя в моду «Ужины после театра» и «Воскресные обеды с музыкой», приглашая гостей на выступления именитых музыкантов и певцов. Многие известные петербуржцы были завсегдатаями ресторана. Достаточно назвать А.А. Блока, А.М. Бутлерова, И.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, П.И. Чайковского. Повара ресторана одними из первых в России стали привносить идеи французской кухни в традиционную русскую гастрономию. Ресторан был по достоинству оценен знатоками кухни. Гостей привлекал также клубный стиль, который стал отличительной особенностью ресторана. В 1904–1906 гг. архитектор А.С. Хренов надстроил здание пятым этажом. Гражданский инженер Б.И. Конецкий выполнил внутреннюю отделку ресторана, а также магазина В.И. Соловьева, помещавшегося в угловой части здания. На всю ширину тротуара выступала широкая терраса ресторана со стеклянным потолком11. «…На самом углу Невского, с правой стороны находится давно известный в Петербурге ресторан Палкина. Здесь прекрасная кухня, роскошно отделанные отдельные кабинеты…», – сообщал в 1892 г. «Альманах-путеводитель по С.-Петербургу» Зарубина.
В.И. Соловьев родился в 1839 г. в деревне Уварово Коломенского уезда, а в шесть лет был отправлен в столицу к отцу, державшему фруктовую и винную торговлю напротив Технологического института. В столице Соловьев закончил курс приходского училища. С 1863 г. у него свое дело – фруктовая лавка в Петербурге на Николаевской улице. В 1870 г. Соловьев открыл гастрономический магазин на углу Литейного и Невского проспектов, в 1874-м – на углу Невского и Владимирского (они до сих пор известны в городе под именем «Соловьевских»). В 1902 г. он купил «Большую Северную» гостиницу, приносившую в год 100 тысяч рублей чистого дохода. К 1906 г. коммерции советнику Василию Ионовичу Соловьеву принадлежали дома №№ 51, 59, 61 и 118 по Невскому проспекту. Его зять, практикующий врач и почетный член Николаевской детской больницы статский советник Чеслав Генрихович Бродович, живший с женой Людмилой Васильевной в этом доме, тоже был крупным ресторатором и владельцем колониальных магазинов (в частности, магазина «Ягодка» на углу Николаевской и Невского; с «Ягодки» началась карьера его тестя), а племянник А.А. Плаксин владел гастрономическим магазином на углу Большой Морской и Гороховой улиц.
Сын В.И. Соловьева Николай Васильевич (1877–1915), получивший университетское образование, стал, по отзывам современников, «самым образованнейшим и даровитейшим из всех русских книжников старого и нового времени». Проявив твердость характера, в том же 1901 г. без помощи родных, на собственные средства Соловьев открыл в доме № 11 по Симеоновской улице небольшую книжную лавку и положил в основу предприятия собственную библиотеку.
«Старый Палкин» просуществовал до 1917 г. (дом оставался в собственности В.И. Соловьева), затем, по вполне понятным причинам, был закрыт и возобновил работу только в 2002 г. Под вывеской «ПалкинЪ» ныне работает один из самых модных ресторанов.
Дом № 1/47 связан с деятельностью В.И. Ленина. В ресторане Палкина с целью конспирации иногда устраивались заседания редколлегии большевистской газеты «Новая жизнь»; ее изданием осенью 1905 г. руководил В.И. Ленин. После одного из таких совещаний, на котором присутствовали сотрудничавшие в газете литераторы-декаденты, Ленин написал свою знаменитую статью «Партийная организация и партийная литература».
В 1900-х гг. здесь жил преподаватель Женского медицинского института практикующий врач-уролог Альберт Яковлевич Дамский (1868–1949). Никифор Иванович Мокреев содержал парикмахерскую.
С 1924 г. в доме находится кинотеатр «Титан». Здесь в 1934 г. состоялась премьера легендарного фильма братьев Васильевых «Чапаев». Позже кинотеатр стал особенно популярен у ленинградской богемы, так как именно здесь проходили фестивальные показы зарубежного кино.
В 1930—1940-х гг. здесь жили: персональная пенсионерка Бейля Израилевна Володарская, председатель правления Ленхимпромсоюза Фаня Марковна Володарская и сотрудник газеты «Смена» журналист Борис Михайлович (Маркович) Володарский, Владимир Александрович Головлев, Константин Алексеевич Лазарев, врач Лев Михайлович Левит, Екатерина Андреевна Люборацкая и ее сын Борис Васильевич Люборацкий, служащий справочного бюро «Ленсправка» Яков Львович Майзель, Геннадий Матвеевич Михайлов, артист Евгений Дмитриевич Михайлов, сотрудница Управления по благоустройству Центрального района Александра Георгиевна Никитина, персональный пенсионер Инна Ивановна Цукерман.
Б.В. Люборацкий (1926–1942) – участник обороны Ленинграда, красноармеец, стрелок 146-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии. Убит в бою 22 ноября 1942 г. и похоронен на дивизионном братском кладбище юго-восточнее станции Кириши Ленинградской области.
Сегодня в доме на Владимирском, 1, – модный магазин известной торговой марки «Hugo Boss» и кофейня «Идеальная чашка».