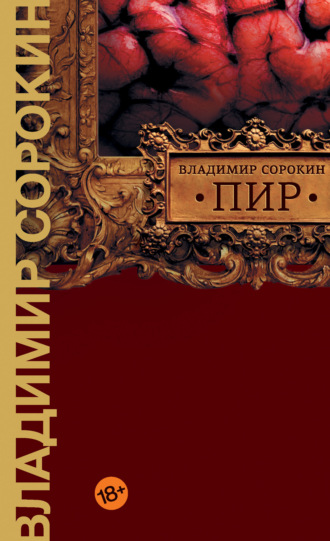
Владимир Сорокин
Пир
– Наинежнейшее!
Язык лежал мясистым знаком вопроса.
– Благодарю вас, батюшка. – С усталой улыбкой Саблина приняла тарелку.
– Ах, какая все-таки прелесть ваша Настенька, – бормотала сквозь мясо Румянцева. – Представьте… м-м-м… всегда, когда ее видела, я думала… как вот… как мы будем… м-м-м… как… нет, это просто потрясающе! Какие тонкие изящные ребра!
– Настасья Сергеевна была удивительным ребенком, – хрустел оплавленной кожей мизинца Лев Ильич. – Однажды я приехал прямо с ассамблеи, устал, как рикша, день жаркий, и натурально, по-простому… м-м-м… решил, знаете ли, так вот прямо в…
– Вина! Вина еще! Павлушка! – вскрикнул Саблин. – Где фалернское?
– Так вы же изволили бордо-с. – Тот завертел белой тонкокожей шеей.
– Дурак! Бордо – это только прелюдия! Тащи!
Лакей выбежал.
– Вкусно, черт возьми, – тучно вздохнул Мамут. – И очень, очень правильно, что без всяких там приправ.
– Хорошее мясо не требует приправ, Дмитрий Андреевич, – откинулся на спинку стула жующий Саблин. – Как любая Ding an sich!
– Истинная правда, – поискал глазами отец Андрей. – А где же, позвольте, это…
– Что, брат?
– Ложечка чайная.
– Изволь! – протянул Саблин.
Батюшка воткнул ложечку в глаз жареной головы, решительно повернул: Настин глаз оказался на ложечке. Зрачок был белым, но ореол остался все тем же зеленовато-серым. Аппетитно посолив и поперчив глаз, батюшка выжал на него лимонного сока и отправил в рот.
– А я у рыбы глаза не могу есть, – полусонно произнесла медленно жующая Арина. – Они горькие.
– У Настеньки не горькие, – глотнул вина батюшка. – А очень даже сладкие.
– Она любила подмигивать. Особенно на латыни. Ее за это три раза в кондуит записывали.
– Настя умела удивительно смотреть, – заговорила Саблина, задумчиво двигая ножом на тарелке недоеденный язык. – Когда я ее родила, мы жили в Петербурге. Каждый день приходила кормилица кормить Настеньку. А я сидела рядом. И однажды Настя очень странно, очень необычно на меня посмотрела. Она сосала грудь и смотрела на меня. Это был какой-то совсем не детский взгляд. Мне, право, даже стало не по себе. Я отвернулась, подошла к окну и стала в него глядеть. Была зима, вечер. И окно все затянуло изморозью. Только в середине оставалась проталина. И в этой черной проталине я увидела лицо моей Настеньки. Это было лицо… не знаю, как объяснить… лицо очень взрослого человека. Который был значительно старше меня. Я испугалась. И почему-то сказала: “Батый”.
– Батый? – нахмурил брови отец Андрей. – Тот самый? Хан Батый?
– Не знаю, – вздохнула Саблина. – Возможно, и не тот. Но тогда я сказала – “Батый”.
– Выпей вина, – пододвинул ей бокал Саблин.
Она послушно выпила.
– Вообще иногда в родном человеке может черт-те что померещиться. – Румянцев протянул пустую тарелку. – Пожалуйста, с бедрышка вон с того.
– С какого? – встала Саблина.
– Что позажаристей.
Она стала вырезать кусок.
– Сергей Аркадьич, – вытер жирные губы Мамут, – полноте мучить супругу. Пригласите повара.
– Да что вы, господа, – улыбалась Саблина. – Мне чрезвычайно приятно поухаживать за вами.
– Я берегу здоровье моего повара, – глотнул вина Саблин. – Сашенька, и мне потом шеечки с позвонками… Да! Берегу. И ценю.
– Повар хороший, – хрустел Настиным носом отец Андрей, – хоть и деревенский.
– Деревенский, брат! А гаршнепа в бруснике делает получше, чем у Тестова. Все соусы знает. Помнишь на Пасху поросят?
– А как же.
– Я ему восемь поваренных книг привез. Да-да-да! Повар! Что ж это я… – Дожевывая, Саблин встал, ухватился за Настину ступню, повернул.
Затрещали кости.
– Полосни-ка вот здесь, Сашенька…
Саблина полоснула. Он оторвал ступню, взял ополовиненную бутылку фалернского и пошел из столовой на кухню. В душном ванильном воздухе кухни повар трудился над лимонно-розовой пирамидой торта, покрывая его кремовыми розами из бумажной трубки. Кухарка рядом взбивала сливки к голубике.
– Савелий! – Саблин поискал глазами стакан, увидел медную кружку. – Ну-ка, бери.
Вытерев испачканные кремом руки о фартук, повар смиренно взял кружку.
– Ты сегодня постарался, – наполнил кружку до краев Саблин. – Выпей в память о Насте.
– Благодарствуйте. – Повар осторожно, чтобы не расплескать вино, перекрестился, поднес кружку к губам и медленно выцедил до дна.
– Ешь, – протянул ему ступню Саблин.
Савелий взял ступню, примерился и с силой откусил. Саблин в упор смотрел на него. Повар жевал тяжело и углубленно, словно работал. Куцая борода его ходила вверх-вниз.
– Хороша моя дочь? – спросил Сергей Аркадьевич.
– Хороша, – проглотил повар. – Поупрело славно. Печка ваша новая ухватиста.
Саблин хлопнул его по плечу, повернулся и пошел в столовую.
Там спорили.
– Мой папаша сперва сеял чечевицу, а как всходила – сразу запахивал и сеял пашаничку, – увесисто рассуждал отец Андрей. – Пашаничка ко Преображению была такой, что мы с сестренкой в ней стоя в прятки играли. Ее и в ригу волочь не надобно было – пихнул сноп, он и посыпался. До весны, бывалоча, соломой топили. А вы мне – паровая молотилка!
– Тогда, батюшка, давайте в каменный век вернемся! – желчно смеялся Румянцев. – Будем как в песенке: лаптем пашут, ногтем жнут!
– Можно и в каменный век, – раскуривал потухшую сигару Мамут. – Было б что пахать.
– Неужели опять про хлеб? – запихнул новую салфетку за ворот Саблин. – Черт его побери совсем! Надоело. Господа, неужели других сюжетов нет?
– Это все мужчины, Сергей Аркадьич, – крутила бокал с вином Румянцева. – Их хлебом не корми, дай про что-нибудь механическое поспо…
– Что?! – притворно-грозно оперся кулаками в стол Саблин. – Каким еще хле-бом?! Каким, милостивая государыня, хле-бом?! Я вас не на хлеб пригласил! Хле-бом! Это каким же, позвольте вас спросить, хлебом я кормлю мужчин?! А? Вот этим, что ли? – Он схватил тарелку Арины с недоеденным лобком. – Это что, по-вашему, – булка французская?
Румянцева уставилась на него, полуоткрыв рот.
Повисла тишина.
Мамут выпустил изо рта нераскуренную сигару, подался массивной головой вперед, словно собираясь завалиться на стол, колыхнул пухлым животом и утробно захохотал. Румянцев втянул узкую голову в стоячий воротник, замахал руками, словно отгоняя невидимых пчел, взвизгнул и пронзительно захихикал. Лев Ильич икнул, схватился руками за лицо, будто собираясь оторвать его от черепа, и нервно засмеялся, дергая костлявыми плечами. Отец Андрей хлопнул ладонями по столу и захохотал здоровым русским смехом. Арина прыснула в ладонь и беззвучно затряслась, словно от приступа рвоты. Румянцева завизжала, как девочка на лужайке. Саблина покачала головой и устало рассмеялась. Саблин откинулся на стул и заревел от восторга.
Минуты две хохот сотрясал столовую.
– Не могу… ха-ха-ха… смерть, смерть моя… ох… – вытер слезы отец Андрей. – Тебя, Сережа, надобно на каторгу сослать…
– За что… ха-ха… за каламбуризм? – тяжело успокаивался Мамут.
– За пытку смехом… ой… хи-хи-хи… – извивался Румянцев.
– Сергей Аркадьевич – настоящий… ох… инквизитор… – вздохнула раскрасневшаяся Румянцева.
– Палач! Палач! – качал головой Лев Ильич.
– Аринушка, прошу вас. – Саблин поставил перед ней тарелку.
– Как же я теперь есть буду? – искренне спросила она.
Новый приступ хохота обвалился на гостей. Хохотали до слез, до колик. Мамут уперся багровым лбом в стол и рычал себе в манишку. Румянцев сполз на пол. Его супруга визжала, всунув в рот кулак. Лев Ильич плакал навзрыд. Батюшка хохотал просто и здорово, как крестьянин. Саблин хрюкал, сопел, хрипел, молотя ногами по полу. Арина мелко хихикала, словно вышивала бисером.
– Ну все! Все! Все! – вытер мокрое лицо Саблин. – Finita!
Стали приходить в себя.
– Похохотать хорошо, конечно, голову прочищает… – тяжело выдохнул Мамут.
– Говорят, можно эдаким манером и заворот кишок схлопотать, – глотнул вина Румянцев.
– От доброго смеха никто не умирал, – огладил бороду батюшка.
– Господа, продолжим, продолжим, – потер руки Саблин. – Пока Настя теплая. Сашенька-свет, положи-ка ты мне… – он мечтательно прищурился, – потрошков!
– А мне – шейки.
– Мне – плечико, Сашенька, голубушка…
– Бедро! Только бедро!
– Можно… там вот, где корочка отстает?
– Александра Владимировна, от руки будьте любезны.
И вскоре все уже молча жевали, запивая мясо вином.
– Все-таки… необычный вкус у человеческого мяса… а? – пробормотал Румянцев. – Дмитрий Андреевич, вы не находите?
– Мясо вообще странная пища, – тяжело пережевывал Мамут.
– Это почему же? – спросил Саблин.
– Живое потому что. А стоит ли убивать живое исключительно ради поедания?
– Жалко?
– Конечно, жалко. Мы на прошлой неделе в Путятино ездили к Адамовичам. Только от станции отъехали – ступица подломилась. Дотащились до тамошнего шорника. А пока он новую ладил, я на ракиту присел, эдак в теньке. Ну и подошла ко мне свинья. Обыкновенная хавронья. Встала и смотрит на меня. Выразительно смотрит. Живое существо. Целый космос. А для шорника – просто семь пудов мяса. И я подумал: какая все-таки это дичь – пожирать живых существ! Прерывать жизнь, разрушать гармонию только для процесса переваривания пищи. Который кончается известно чем.
– Вы просто как Толстой рассуждаете, – усмехнулась Румянцева.
– По проблеме вегетарианства у меня с графом нет расхождений. Вот непротивление злу – это увольте.
– Что значит – прерывать жизнь? – перчил печень Саблин. – А у яблока вы не прерываете жизнь? У ржаного колоса?
– Колосу не больно. А свинья визжит. Значит, страдает. А страдание – нарушение мировой гармонии.
– А может, яблоку тоже больно, когда им хрустят, – тихо проговорил Лев Ильич. – Может, оно вопиет от боли, корчится, стенает. Только мы не слышим.
– Ага! – заговорила вдруг Арина, вытянув из губ лобковый волос Насти. – У нас прошлым летом рощу рубили, а маменька покойная всегда окна закрывала. Я говорю: что ты, маменька? А она – деревья плачут.
Некоторое время ели молча.
– Бедра удивительно удались, – покачал головой Румянцев. – Сочные… как не знаю что… сок так и брызжет…
– Русская печь – удивительнейшая вещь, – разрезал почку Саблин. – Разве в духовом шкафу так истомится? А на открытых углях?
– На открытых углях только свинину жарить можно, – тяжело кивал Мамут. – Постное мясо сохнет.
– То-то и оно.
– Но жарят же черкесы шашлык? – подняла пустой бокал Румянцева.
– Шашлык, голубушка, – вороний корм. А тут – три пуда мяса! – кивнул Саблин на блюдо с Настей.
– А я люблю шашлыки, – вздохнул Лев Ильич.
– Нальет мне кто-нибудь вина? – трогала свой нос бокалом Румянцева.
– Не зевай, пентюх! – прикрикнул Саблин на Павлушку.
Лакей кинулся наливать.
– А Александра Владимировна вообще не едят-с, – доложила Арина.
– Неужели невкусно? – развел масленые руки Румянцев.
– Нет, нет. Очень вкусно, – вздохнула Саблина. – Просто я… устала, право.
– Вы мало пьете, – заключил Мамут. – Поэтому и кусок в горло не лезет.
– Выпей как положено, Сашенька! – Саблин поднес полный бокал к ее устало-красивым губам.
– Выпейте, выпейте с нами, – возбужденно моргал Румянцев.
– Не манкируйте, Сашенька! – улыбалась порозовевшая Румянцева.
Саблин взял жену левой рукой за шею и медленно, но решительно влил вино ей в рот.
– Ой… Сережа… – выдохнула она.
Все зааплодировали.
– И теперь – капитальнейшей закуски! – командовал Мамут.
– Чего-нибудь оковалочного, с жирком, Александра Владимировна, – подмигивал Лев Ильич.
– Я знаю, что надо! – Саблин вскочил, схватил нож и с размаху вонзил в живот Насте. – Потрошенций! Это самая-пресамая закуска!
Откромсав ножом ком кишок, он подцепил его вилкой и кинул на тарелку жены:
– В потрохе – самая суперфлю, самая витальность! Съешь, радость моя! У тебя сразу все пройдет!
– Правильно! Очень правильно! – тряс вилкой Мамут. – Я куропаток только с потрохами ем.
– Я не знаю… может, лучше белого мяса? – Саблина смотрела на серовато-белые кишки, сочащиеся зеленовато-коричневым соком.
– Съешь немедленно, умоляю! – взял ее за затылок Саблин. – Будешь потом благодарить всех нас!
– Скушайте, Сашенька!
– Александра Владимировна, ешьте непременно! Это приказ свыше!
– Нельзя отлынивать от еды!
Саблин насадил на вилку кусок, поднес ко рту жены.
– Только не надо меня кормить, Сереженька, – усмехнулась она, беря у него вилку и пробуя.
– Ну как тебе? – смотрел в упор Саблин.
– Вкусно, – жевала она.
– Милая моя жена! – Он взял ее левую руку, поцеловал. – Это не просто вкусно. Это божественно!
– Согласен, – откликнулся отец Андрей. – Есть свою дочь – божественно. Жаль, что у меня нет дочери.
– Не жалей, брат, – отрезал себе кусок бедра Саблин. – У тебя духовных чад предостаточно.
– Я не вправе их жарить, Сережа.
– Зато я вправе! – Мамут ущипнул жующую дочь за щеку. – Ждать не так уж много осталось, егоза.
– Когда у вас? – спросил отец Андрей.
– В октябре. Шестнадцатого.
– Ну, еще долго.
– Два месяца быстро пролетят.
– Ариша, ты готовишься? – спросила Румянцева, разглядывая отрезанный Настин палец.
– Надоело ждать, – отодвинула пустую тарелку Арина. – Всех подруг уж зажарили, а я все жду. Таню Бокшееву, Адель Нащекину, теперь вот Настеньку.
– Потерпи, персик мой. И тебя съедим. Деток непременно надобно есть. Зачем рожали, а? Есть, есть, есть!
– Вы, Арина Дмитриевна, будете очень вкусны, уверен! – подмигнул Лев Ильич.
– С жирком нагульным, а как же! – засмеялся, теребя ей ухо, Мамут.
– Зажарим, как поросеночка, – улыбался Саблин. – В октябре-то под водочку под рябиновую как захрустит наша Аринушка – у-у-у!
– Волнуетесь, поди? – грыз сустав Румянцев.
– Ну… – мечтательно закатила она глаза и повела пухлым плечом, – немного. Очень уж необычно!
– Еще бы!
– С другой стороны – многих жарят. Но я… не могу представить, как я в печи буду лежать.
– Трудно вообразить?
– Ага! – усмехнулась Арина. – Это же так больно!
– Очень больно, – серьезно кивнул отец Андрей.
– Ужасно больно, – гладил ее пунцовую щеку Мамут. – Так больно, что сойдешь с ума перед тем, как умереть.
– Не знаю, – пожала плечами она. – Я иногда свечку зажгу, поднесу палец, чтоб себя испытать, глаза зажмурю и решаю про себя: вытерплю до десяти, а как начну считать – раз, два, три, – и не могу больше! Больно очень! А в печи? Как же я там?
– В печи! – усмехнулся Мамут, перча новый кусок. – Там не пальчик, а вся ты голенькая лежать будешь. И не над свечкой за семишник, а на углях раскаленных. Жар там лютый, адский.
Арина на минуту задумалась, чертя ногтем по скатерти.
– Александра Владимировна, а Настя сильно кричала?
– Очень, – медленно и красиво ела Саблина.
– Билась до последнего, – закурил папиросу Саблин.
Арина зябко обняла себя за плечи:
– Танечка Бокшеева, когда ее к лопате притянули, в обморок упала. А в печи очнулась и закричала: “Мамочка, разбуди меня!”
– Думала, что это сон? – улыбчиво таращил глаза Румянцев.
– Ага!
– Но это был не сон, – деловито засуетился вокруг блюда Саблин. – Господа, добавки! Торопитесь! Жаркое не едят холодным.
– С удовольствием, – протянул тарелку отец Андрей. – Есть надо хорошо и много.
– В хорошее время и в хорошем месте. – Мамут тоже протянул свою.
– И с хорошими людьми! – Румянцева последовала их примеру.
Саблин кромсал еще теплую Настю:
– Durch Leiden Freude.
– Вы это серьезно? – раскуривал потухшую сигару Мамут.
– Абсолютно.
– Любопытно! Поясните, пожалуйста.
– Боль закаляет и просветляет. Обостряет чувства. Прочищает мозги.
– Чужая или своя?
– В моем случае – чужая.
– Ах, вот оно что! – усмехнулся Мамут. – Значит, вы по-прежнему неисправимый ницшеанец?
– И не стыжусь сего.
Мамут разочарованно выпустил дым.
– Вот те на! А я-то надеялся, что приехал на ужин к такому же, как я, гедонисту. Значит, вы зажарили Настю не из любви к жизни, а по идеологическим соображениям?
– Я зажарил свою дочь, Дмитрий Андреевич, из любви к ней. Можете считать меня в этом смысле гедонистом.
– Какой же это гедонизм? – желчно усмехнулся Мамут. – Это толстовщина чистой воды!
– Лев Николаевич пока еще не жарил своих дочерей, – деликатно возразил Лев Ильич.
– Да и вряд ли зажарит, – вырезал кусок из Настиной ноги Саблин. – Толстой – либеральный русский барин. Следовательно – эгоист. А Ницше – новый Иоанн Креститель.
– Демагогия, – хлебнул вина Мамут. – Ницше вам всем залепил глаза. Всей радикально мыслящей интеллигенции. Она неспособна просто и здраво видеть сущее. Нет, это бред какой-то, всеобщее помешательство, второе затмение умов! Сперва Гегель, на которого мой дедушка молился в буквальном смысле слова, теперь этот усатый!
– Что вас так раздражает в Ницше? – раскладывал вырезанные куски по тарелкам Саблин.
– Не в нем, а в русских ницшеанцах. Слепота раздражает. Ницше не добавил ничего принципиально нового к мировой философской мысли.
– Ой ли? – Саблин передал ему тарелку с правой грудью.
– Сомнительное заявление, – заметил Лев Ильич.
– Ничего, ни-че-го принципиально нового! Вся греческая литература ницшеанская! От Гомера до Аристофана! Аморализм, инцест, культ силы, презрение к быдлу, гимны элитарности! Вспомните Горация! “Я презираю темную толпу!” А философы? Платон, Протагор, Антисфен, Кинесий? Кто из них не призывал преодолеть человеческое, слишком человеческое? Кто любил демос? Кто говорил о милосердии? Разве что один Сократ.
– О сверхчеловеке заговорил первым только Ницше, – возразил Саблин.
– Чушь! Шиллер употреблял это слово! О сверхчеловеке говорили многие – Гете, Байрон, Шатобриан, Шлегель! Да что Шлегель, черт возьми, – в статейке Раскольникова весь ваш Ницше! С потрохами! А Ставрогин, Версилов? Это не сверхчеловеки? “…Свету провалиться, лишь бы мне всегда чай пить!”
– Все великие философы подводят черту, так сказать, общий знаменатель под интуитивно накопленным до них, – заговорил отец Андрей. – Ницше не исключение. Он же не в чистом поле философствовал.
– Ницше не подводил никакого общего знаменателя, никакой там черты! – резко тряхнул головой Саблин. – Он сделал великий прорыв! Он первый в истории человеческой мысли по-настоящему освободил человека, указал путь!
– И что же это за путь? – спросил Мамут.
– “Человек есть то, что должно преодолеть!” Вот этот путь.
– Все мировые религии говорят то же самое.
– Подставляя другую щеку, мы ничего не изменяем в мире.
– А толкая падающего – изменяем? – забарабанил пальцами по столу Мамут.
– Еще как изменяем! – Саблин поискал глазами соусник, взял; загустевший красный соус потек на мясо. – Освобождая мир от слабых, от нежизнеспособных, мы помогаем здоровой молодой поросли!
– Мир не может состоять исключительно из сильных, полнокровных. – Осторожно положив дымящуюся сигару на край пепельницы, Мамут отрезал кусочек мяса, сунул в рот, захрустел поджаристой корочкой. – Попытки создания так называемого “здорового” государства были, вспомните Спарту. И чем это кончилось? Все те, кто толкал падающих, сами попбдали.
Саблин ел с таким аппетитом, словно только что сел за стол:
– Спарта – не аргумент… м-м-м… У Гераклита и Аристокла не было опыта борьбы с христианством за новую мораль. Поэтому их идеи государства остались утопическими… Нынче другая ситуация в мире… м-м-м… Мир ждет нового мессию. И он грядет.
– И кто же он, позвольте вас спросить?
– Человек. Который преодолел самого себя.
– Демагогия… – махнул вилкой Мамут.
– Мужчины опять съехали на серьезное, – громко обсасывала ключицу Румянцева.
Отец Андрей положил себе хрена:
– Я прочитал две книги Ницше. Талантливо. Но в целом мне чужда его философия.
– Зачем тебе, брат, философия? У тебя есть вера, – пробормотал с полным ртом Саблин.
– Не фиглярствуй, – кольнул его серьезным взглядом отец Андрей. – Философия жизни есть у каждого человека. Своя собственная. Даже у идиота есть философия, по которой он живет.
– Это что… идиотизм? – осторожно спросила Арина.
Саблин и Мамут засмеялись, но отец Андрей перевел серьезный взгляд на Арину.
– Да. Идиотизм. А моя доктрина жизни – живи и давай жить другому.
– Это очень правильная доктрина, – тихо произнесла Саблина.
Все вдруг замолчали и долго ели в тишине.
– Вот и тихий ангел пролетел, – вздохнул Румянцев.
– Не один. А целая стая, – протянула пустой бокал Арина.
– Не наливай ей больше, – сказал Мамут склоняющемуся с бутылкой Павлушке.
– Ну папочка!
– В твои годы человек должен быть счастлив и без вина.
– Живи и давай жить другому… – задумчиво проговорил Саблин. – Что ж, Андрей Иваныч, это философия здравого смысла. Но!
– Как всегда – но! – усмехнулся батюшка.
– Уж не обессудь. Твоя философия сильно побита молью. Как и вся наша старая мораль. В начале девятнадцатого века я бы, безусловно, жил по этой доктрине. Но сегодня мы стоим на пороге нового столетия, господа. До начала двадцатого века осталось полгода. Полгода! До начала новой эры в истории человечества! Поэтому я пью за новую мораль грядущего века – мораль преодоления!
Он встал и осушил бокал.
– Что же это за новая мораль? – смотрел на него отец Андрей. – Без Бога, что ли?
– Ни в коем случае! – скрипнул ножом, разрезая мясо, Саблин. – Бог всегда был и останется с нами.
– Но ведь Ницше толкует о смерти Бога?
– Не понимай это буквально. Каждому времени соответствует свой Христос. Умер старый гегелевский Христос. Для грядущего века потребуется молодой, решительный и сильный Господь, способный преодолеть! Способный пройти со смехом по канату над бездной! Именно – со смехом, а не с плаксивой миной!
– То есть для нового века нужен Христос – канатный плясун?
– Да! Да! Канатный плясун! Ему мы будем молиться всей душой, с ним преодолеем себя, за ним пойдем к новой жизни!
– По канату?
– Да, любезнейший Дмитрий Андреевич, по канату! По канату над бездной!
– Это сумасшествие, – покачал головой отец Андрей.
– Это – здравый смысл! – Саблин хлопнул ладонью по столу.
Посуда зазвенела.
Саблина зябко повела плечами:
– Господи, как я устала от этих споров. Сережа, хотя бы сегодня можно обойтись без философии?
– Русские мужчины летят на философию, как мухи на мед! – произнесла Румянцева.
Все засмеялись.
– Александра Владимировна, спойте нам! – громко попросил Румянцев.
– Да, да, да! – вспомнил Мамут. – Спойте! Спойте обязательно!
– Сашенька, спойте!
Саблина сцепила замком тонкие пальцы, потерла ими:
– Я, право… сегодня такой… день.
– Спой, радость моя, – вытер губы Саблин. – Павлушка! Неси гитару!
Лакей выбежал.
– А я тоже выучилась на гитаре играть! – сказала Арина. – Покойная maman говорила, что есть романсы, которые хороши только под гитару. Потому как рояль – строгий инструмент.
– Святая правда! – улыбался Румянцев.
– Две гитары, зазвенев, жалобно заныли… – угрюмо осматривал стол Мамут. – Позвольте, а где горчица?
– Je vous en prie! – подала Румянцева.
Павлушка принес семиструнную гитару. Саблин поставил стул на ковер. Александра Владимировна села, положила ногу на ногу, взяла гитару и, не пробуя струн, сразу заиграла и запела несильным, проникновенным голосом:
Ты помнишь ли тот взгляд красноречивый,
Который мне любовь твою открыл?
Он в будущем мне был залог счастливый,
Он душу мне огнем воспламенил.
В тот светлый миг одной улыбкой смела
Надежду поселить в твоей груди…
Какую власть я над тобой имела!
Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
Ты помнишь ли минуты ликованья,
Когда для нас так быстро дни неслись?
Когда ты ждал в любви моей признанья
И верным быть уста твои клялись?
Ты мне внимал, довольный, восхищенный,
В очах твоих горел огонь любви.
Каких мне жертв не нес ты, упоенный?
Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
Ты помнишь ли, когда в уединенье
Я столько раз с заботою немой
Тебя ждала, завидя в отдаленье;
Как билась грудь от радости живой?
Ты помнишь ли, как в робости невольной
Тебе кольцо я отдала с руки?
Как счастьем я твоим была довольна?
Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
Ты помнишь ли, вечерними часами
Как в песнях мне страсть выразить умел?
Ты помнишь ли ночь, яркую звездами?
Ты помнишь ли, как ты в восторге млел?
Я слезы лью, о прошлом грудь тоскует,
Но хладен ты и сердцем уж вдали!
Тебя тех дней блаженство не чарует,
Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
– Браво! – вскрикнул Румянцев, и все зааплодировали.
– Одна радость у меня, один свет невечерний… – Саблин поцеловал жене руку.
– Господа, давайте же выпьем за здоровье Александры Владимировны! – встал Румянцев.
– Непременно! – заворочался, вставая, Мамут.
– За вас, дорогая Сашенька! – вытянула руку с бокалом Румянцева.
– Благодарю вас, господа, – подошла к столу Саблина.
Муж дал ей бокал.
Лев Ильич встал с бокалом в руке.
– Господа, позвольте мне сказать, – заговорил он. – Александра Владимировна – удивительный человек. Даже такой закоренелый женоненавистник, эгоист и безнадежный скептик, как я, и то не устоял перед очарованием хозяйки Саблино. Шесть… нет… почти уж семь лет тому назад оказался я здесь впервые и… – он опустил глаза, – влюбился сразу. И все эти семь лет я люблю Александру Владимировну. Люблю, как никого боле. И… я не стесняюсь говорить об этом сегодня. Я люблю вас, Александра Владимировна.
Втянув голову в костистые плечи, он стоял, вращая узкий бокал в своих больших худых ладонях.
Саблина подошла к нему, поднялась на мысках и поцеловала в щеку.
– Сашенька, поцелуй его как следует, – произнес Саблин.
– Ты разрешаешь? – Она в упор разглядывала смущенное лицо Льва Ильича.
– Конечно.
– Тогда подержи. – Она отдала мужу бокал, обняла Льва Ильича за шею и сильно поцеловала в губы, прижавшись к нему тонким пластичным телом.
Пальцы Льва Ильича разжались, его бокал выскользнул, упал на ковер, но не разбился. Лев Ильич сжал талию Саблиной своими непомерно длинными руками, ответно впился ей в губы. Они целовались долго, покачиваясь и шурша одеждой.
– Не сдерживай себя, радость моя, – смотрел Саблин наливающимися кровью глазами.
Саблина застонала. Ноги ее дрогнули. Жилистые пальцы Льва Ильича сжали ее ягодицы.
– Только здесь, прошу вас, – забормотал Саблин. – Здесь, здесь…
– Нет… – с трудом отняла губы Саблина. – Ни в коем случае…
– Здесь, здесь, умоляю, радость моя! – опустился на колени стремительно багровеющий Саблин.
– Нет, ни за что…
– Лев Ильич, умоляю! Прошу тебя, Христа ради!
Лев Ильич обнял Саблину.
– Здесь ребенок, вы с ума сошли!
– Мы все дети на этой земле, Александра Владимировна, – улыбнулся Мамут.
– Умоляю, умоляю! – всхлипывал Саблин.
– Ни за что…
– Сашенька, как вы очаровательны! Как я вам завидую! – восторженно приподнялась Румянцева.
– Умоляю, умоляю тебя… – Саблин пополз к ней на коленях.
– Ах, оставьте! – попыталась вырваться Саблина, но Лев Ильич держал ее.
– В искренней нежности нет греха, – теребил бороду отец Андрей.
Саблин схватил жену за ноги, стал задирать ей платье. Лев Ильич сжимал ее стан, припав губами к шее. Обнажились стройные ноги без чулок, сверкнули кружева нательной рубашки, Саблин вцепился в белые панталоны, потянул.
– Не-е-е-т!!! – закричала Саблина, запрокинув голову.
Саблин окаменел.
Оттолкнув лицо Льва Ильича, она выбежала из столовой.
Саблин остался сидеть на ковре.
– Ступай за ней, – хрипло сказал он Льву Ильичу.
Тот нелепо стоял – краснолицый, с разведенными клешнями рук.
– Ступай за ней!! – выкрикнул Саблин, так что дрогнули подвески хрустальной люстры.
Лев Ильич, как сомнамбула, побрел из столовой.
Саблин прижал ладони к лицу и тяжко, с дрожью выдохнул.
– Сергей Аркадьевич, пожалейте себя, – нарушил тишину Мамут.
Саблин достал платок и медленно вытер вспотевшее лицо.
– Как она хороша, – стояла, качая головой Румянцева. – Как она маниакально хороша!
– Шампанского, – вполголоса произнес Саблин, разглядывая узор на ковре.
Лев Ильич поднялся наверх по лестнице, тронул дверь спальни Саблиных. Дверь оказалась запертой.
– Саша, – глухо произнес он.
– Оставь меня, – послышалось за дверью.
– Саша.
– Уйди, ради Христа.
– Саша.
– Что тебе нужно от меня?
– Саша.
Она открыла дверь. Лев Ильич схватил ее за бедра, поднял и понес к кровати.
– Тебе нравится кривляться? Нравится потворствовать ему, нравится? – забормотала она. – Идти на поводу у этого… этого… Неужели тебе нравится все это? Вся эта… эта… низкая двусмысленность? Весь этот глупый, пошлый театр?
Бросив ее на абрикосовый шелк покрывала, Лев Ильич сдирал с нее узкое, кофейного тона платье.
– Он потакает своей мужицкой природе… он… он ведь мужик в третьем… нет… во втором поколении… он сморкается в землю до сих пор… но ты, ты! Ты умный, честный, сложно устроенный человек… ты… ты же прекрасно понимаешь всю двусмысленность моего… ах, не рви так!.. всю, всю нелепость… Боже… за что мне все это?!
Покончив с платьем, Лев Ильич задрал ее кружевную рубашку и, стоя на коленях, прыгающими руками стал расстегивать брюки.
– Если мы… если мы всё, всё уже знаем… если готовы на всё… знаем, что любим друг друга… и… что нет другого пути… что… наши звезды сияют друг другу, – бормотала она, глядя на лепной венец потолка, – если мы встретились… пусть ужасно и нелепо, пусть даже глупо… как и всё, что случается вдруг… то давай хотя бы дорожить этой тонкой нитью… этим слабым лучом… давай беречь всё это хрупкое и дорогое… давай постараемся… ааа!
Лев Ильич вошел в нее.
Павлушка неловко открыл шампанское. Пена хлынула из бутылки на поднос.
– Дай сюда, пентюх! – забрал бутылку Саблин. – А сам пшел вон!
Лакей согнулся, словно получив невидимый удар в живот, и вышел.
– Почему русские так не любят прислуживать? – спросил Мамут.
– Гордыня, – ответил отец Андрей.
– Хамство простое наше великорусское, – вздохнул Румянцев.
– Мы сами виноваты. – Румянцева нежно гладила скатерть. – Воспитывать прислугу надо уметь.
– То есть сечь? Это не выход. – Саблин хмуро разливал вино по бокалам. – Иногда приходится, конечно. Но я это не люблю.
– Я тоже против порки, – заговорил отец Андрей. – Розга не воспитывает, а озлобляет.
– Просто сечь надобно с толком, – заметила Румянцева.
– Конечно, конечно! – встрепенулась Арина. – У покойной Танечки Бокшеевой я раз такое видала! Мы к ней после гимназии зашли, она мне обещала новую Чарскую дать почитать, а там – кавардак! Гувернантка вазу разбила. И ее Танечкин папа наказывал публично. Он говорит: “Вот и хорошо, барышни, что вы пришли. Будете исполнять роль публики”. Я не поняла сначала ничего: гувернантка ревет, кухарка на стол клеенку стелет, мама Танина с нашатырем. А потом он гувернантке говорит: “Ну-ка, негодница, заголись!” Та юбку подняла, на клеенку грудью легла, а кухарка ей на спину навалилась. Он с нее панталоны-то стянул, я гляжу, а у нее вся задница в шрамах! И как пошел по ней ремнем, как пошел! Она – вопить! А кухарка ей в рот корпию запихала! А он – раз! раз! раз! А Танечка меня локтем в бок пихает, говорит, ты посмотри, как у нее…
– Довольно, – прервал ее Мамут.
– Просто сечь – варварство. – Румянцева поднесла шипящий бокал к носу, прикрыла глаза. – У нас Лизхен уже четвертый год служит. Теперь уж просто член семьи. Так вот, в самый первый день мы ее с Виктором в спальню завели, дверь заперли. А сами разделись, возлегли на кровать и совершили акт любви. А она смотрела. А потом я ей голову зажала между ног, платье подняла, а Виктор ее посек стеком. Да так, что она обмочилась, бедняжка. Смазала я ей popo гусиным жиром, взяла за руку и говорю: – Вот, Лизхен, ты все видела? – Да, мадам. – Ты все поняла? – Да, мадам. – Ничего ты, говорю, не поняла. – Одели мы ее в мое бальное платье, отвели в столовую, посадили за стол и накормили обедом. Виктор резал, а я ей кусочки золотой ложечкой – в ротик, в ротик, в ротик. Споили ей бутылочку мадеры. Сидит она, как кукла пьяная, хихикает: – Я все поняла, мадам. – Ой ли? – говорю. Запихнули мы ее в платяной шкаф. Просидела там три дня и три ночи. Первые две ночи выла, на третью смолкла. Выпустила я ее тогда, заглянула в глаза. – Вот теперь, голубушка, ты все поняла. – С тех пор у меня все вазы целы.







