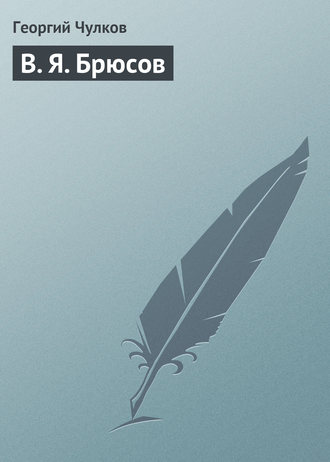
Георгий Чулков
В. Я. Брюсов
Эта враждебность Брюсова совпала с эпохою так называемого «мистического анархизма» после выхода в свет «Факелов» и книги, написанной мною совместно с Вячеславом Ивановым. Началась полемика. Кампанию вел против меня не один Брюсов. Иным я вовсе не отвечал, усматривая в нападках на меня мотивы, не имеющие никакого отношения к литературе, но от литературною поединка с Брюсовым я не уклонился. В ответ на его статьи появились мои статьи в «Золотом руне»[51], в «Перевале». Наша с ним переписка прекратилась весною 1907 года после моей рецензии на его книгу «Земная ось»[52].
Теперь, когда Брюсов среди ушедших от нас, я чувствую, что в моих с ним отношениях, в борьбе, которую мне довелось вести против него, правда не всегда была на моей стороне. Я не хочу этим сказать, что я теперь разделяю его миросозерцание. Напротив, оно мне совершенно чуждо. Но иногда он был прав формально. Я недостаточно ценил прежде форму саму по себе. Я был небрежен и неосторожен. Брюсов был на страже точности, дисциплины и совершенства. И как это было прекрасно и необходимо в то время!
Воистину, работа над формой уже сама по себе дело благочестивое. Брюсов потрудился в поте лица. И не случайно он свою «мечту» сравнивает с волом:
Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай![53]
И Брюсов исполнил честно и свято свой долг труда – нелегкого и ответственного. Он не был одним из тех счастливых прозорливцев, которые приходят, может быть, раз в столетие, чтобы открыть людям какую-нибудь величайшую правду, как Данте[54], Сервантес[55] или Достоевский. Он даже не был одним из тех сравнительно малых поэтов, как Верлен, ибо не было у него мудрости и своеобразия в мироощущении, как у того. Но зато на долю Брюсова выпала честь быть ревнителем формального совершенства: он как бы самим фактом своего существования ознаменовал ту эпоху нашей культуры, которая развивалась не под знаком вдохновения и гениальности, а под знаком тяжкого труда «в поте лица».
Я пытался напомнить ту историческую и бытовую обстановку, в которой начал свою деятельность молодой Брюсов. Он пришел как завоеватель «нового искусства», – и в самом деле, в буржуазно-бесцветной тогдашней московской жизни такое литературное явление, как «Скорпион», казалось чем-то ярким, неожиданным и дерзким. Ушел от нас Брюсов как завершитель некоторой культурной программы, унаследованной им от литературных предшественников. В океане истории мы часто плывем без компаса. Зарю вечернюю мы иногда принимаем за утреннюю[56].







