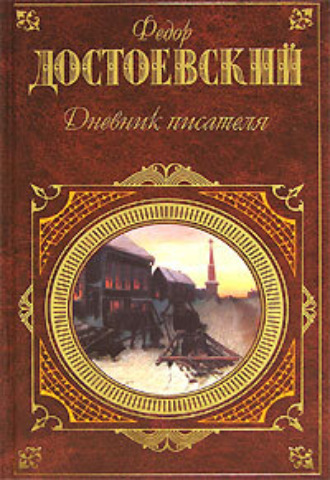
Федор Достоевский
Дневник писателя
Г-н защитник и Великанова
И уж если провозглашать гуманность, то можно бы пожалеть и г-жу Великанову. Кто уж слишком жалеет обидчика, тот, пожалуй, не жалеет обиженного. А между тем г-н Утин отнимает у г-жи Великановой даже ее качество «жертвы преступления». Мне кажется, я решительно не ошибусь заключением, что г-ну Утину, в продолжение всей его речи, поминутно хотелось сказать что-нибудь дурное про г-жу Великанову. Признаюсь, прием этот слишком уж простодушен и, кажется, самый неловкий; он слишком первоначален и тороплив; ведь скажут, пожалуй, г-н защитник, что вы гуманны лишь для своих клиентов, то есть по должности, а разве это правда? Вот вы подхватили и привели, например, «дикую, ужасную» сцену, когда Великанова в раздражении сказала вслух, что «расцелует ручки-ножки у того, кто избавит ее от такого мужа», и что Каирова, тут бывшая, тотчас же сказала на это: «я возьму его», а Великанова ей на то: «ну и возьмите». Вы даже заметили, передав этот факт, что вот с этой-то минуты Каирова и стала считать этого господина своим, стала видеть в нем свое создание и «свое милое дитя». Все это очень наивно. И, во-первых, что тут «дикого и ужасного»? Сцена и слова скверные бесспорно; но ведь если вы допускаете возможность извинить даже бритву в руках Каировой и признать, что Каирова не могла оставаться спокойной, в чем я вам в высшей степени верю, то как же не извинить нетерпеливое, хотя и нелепое, восклицание несчастной жены! Ведь сами же вы признаете, что Великанов человек невозможный и даже до того, что самый факт любви к нему Каировой уже может достаточно засвидетельствовать о ее безумии. Как же вы удивляетесь после того словам Великановой: «ручки-ножки». С невозможным человеком и отношения принимают иногда характер невозможный, и фразы вылетают подчас невозможные. Но ведь это только подчас и всего только фраза. И, признаюсь, если б г-жа Каирова так серьезно поняла, что жена в самом деле отдает ей мужа и что с этих пор она уж и право имеет считать его своим, то была бы большая шутница. Вероятно, все это произошло как-нибудь иначе. И не надо смотреть на иную фразу иного бедного, удрученного человека так свысока. В этих семействах (да и не в этих только одних, а знаете ли еще в каких семействах?) говорят и не такие фразы. Бывает нужда, жизненная тягота, и отношения семейные под гнетом ее иногда невольно грубеют, так что и допускаются иные словечки, которых бы не сказал, например, лорд Байрон своей леди Байрон, даже в самую минуту их окончательного разрыва, или хоть Арбенин Нине в «Маскараде» Лермонтова. Конечно, этого неряшества извинять нельзя, хотя это всего лишь неряшество, дурной нетерпеливый тон, а сердце остается, может быть, еще лучше нашего, так что если смотреть попроще, то, право, будет гуманнее. А если хотите, то выходка г-жи Каировой – «я возьму его», по-моему, гораздо мерзче: тут страшное оскорбление жене, тут истязание, насмешка в глаза торжествующей любовницы, отбившей мужа у жены. У вас, г-н защитник, есть чрезвычайно ядовитые слова про эту жену. Сожалея, например, что она не явилась в суд, а прислала медицинское свидетельство о болезни, вы заметили присяжным, что если б она явилась, то свидетельство это потеряло бы всякое значение, потому что присяжные увидели бы здоровую, сильную, красивую женщину. Но какое вам дело, в данном случае, до ее красоты, силы и здоровья? Вы говорите далее: «Г-да присяжные! Что это за женщина, которая приезжает к мужу, который живет с другою, приходит в дом любовницы своего мужа, зная, что Каирова там живет; решается остаться ночевать и ложится в ее спальне, на постеле… Это превышает мое понятие». Пусть превышает, но все-таки вы слишком аристократичны и – несправедливы. И знаете ли, г-н защитник, что клиентка ваша, может быть, даже много выиграла тем, что г-жа Великанова не явилась в суд.
Про Великанову в суде насказано было много дурного, про ее характер например. Я не знаю ее характера, но мне почему-то даже нравится, что она не явилась. Она не явилась, может быть, по гордости оскорбленной женщины, может быть, жалея даже мужа. Ведь никто ничего не может сказать, почему она не явилась… Но во всяком случае видно, что она не из тех особ, которые любят рассказывать о своих страстях публично и описывать всенародно свои женские чувства. И кто знает, может быть, если б она явилась, то ей ничего бы не стоило разъяснить: почему она остановилась в квартире любовницы своего мужа, чему вы так удивляетесь и что ставите ей в такой особенный стыд. Мне кажется, она остановилась не у Каировой, а у своего раскаявшегося мужа, который призвал ее. И ниоткуда не следует, что г-жа Великанова рассчитывала, что г-жа Каирова будет продолжать платить за эту квартиру. Ей даже, может быть, и трудно было распознать сейчас по приезде: кто тут платит и кто хозяин. Муж звал ее к себе, значит, муж и квартиру оставил за собой; и весьма вероятно, что он так и сказал ей; ведь он же их тогда обеих обманывал. Точь-в-точь и ваша тонкость про спальню и про постель. Тут какой-нибудь волосок, какая-нибудь самая ничтожная подробность могла бы, может быть, разъяснить все разом. Вообще, мне кажется, к этой бедной женщине были все несправедливы, и мне сдается, что застань Великанова Каирову в спальне с своим мужем и прирежь ее бритвой, то кроме грязи и каторги она ничего бы не добилась в своем ужасном качестве законной жены. Ну, возможно ли, например, сказать, как вы сказали, г-н защитник, что в этом «деле» Великанова не потерпела, потому что через несколько дней после происшествия явилась уже на подмостках театра и играла потом всю зиму, тогда как Каирова просидела десять месяцев в заключении. О бедной клиентке вашей мы все жалеем не меньше вас, но согласитесь, что и г-жа Великанова потерпела немало. Не говоря уже о том, сколько она потерпела как жена и как уважающая себя женщина (последнего я решительно не вправе отнять от нее), – вспомните, г-н защитник, вы, такой тонкий юрист и так гуманно заявивший себя в своей речи человек, – вспомните, сколько она должна была вынести в ту ужасную ночь? Она вынесла несколько минут (слишком много минут) смертного страху. Знаете ли, что такое смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это. Она проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы, полоснувшей ее по горлу, увидала яростное лицо над собою; она отбивалась, а та продолжала ее полосовать; она, уж конечно, была убеждена в эти первые, дикие, невозможные минуты, что уже зарезана и смерть неминуема, – да ведь это невыносимо, это горячешный кошмар, только наяву и, стало быть, во сто раз мучительнее; это почти все равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию и когда на привязанного уже надвинут мешок[147] … Помилуйте, г-н защитник, и этакое истязание вы считаете пустяками! и неужели никто из присяжных даже не улыбнулся, это слушая. Ну, и что же такое, что Великанова через две недели уже играла на сцене: уменьшает ли это тот ужас, который она две недели перед тем вынесла, и вину вашей клиентки? Вон мачеха недавно выбросила из четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, а ребенок стал на ножки совсем невредимый: ну, неужели это сколько-нибудь изменяет жестокость преступления, и неужели эта девочка так-таки ровно ничего не претерпела? Кстати, я уж воображаю себе невольно, как эту мачеху будут защищать адвокаты: и безвыходность-то положения, и молодая жена у вдовца, выданная за него насильно или вышедшая ошибкой. Тут пойдут картины бедного быта бедных людей, вечная работа. Она, простодушная, невинная, выходя, думала как неопытная девочка (при нашем-то воспитании особенно!), что замужем одни только радости, а вместо радостей – стирка запачканного белья, стряпня, обмывание ребенка, – «г-да присяжные, она естественно должна была возненавидеть этого ребенка (кто знает, ведь, может, найдется и такой „защитник“, что начнет чернить ребенка и приищет в шестилетней девочке какие-нибудь скверные, ненавистные качества!), – в отчаянную минуту, в аффекте безумия, почти не помня себя, она схватывает эту девочку и… Г-да присяжные, кто бы из вас не сделал того же самого? Кто бы из вас не вышвырнул из окна ребенка?»
Мои слова, конечно, карикатура, но если взяться сочинить эту речь, то, действительно, можно сказать что-нибудь довольно похожее и именно в этом самом роде, то есть именно в роде этой карикатуры. Вот это-то и возмутительно, что именно в роде этой карикатуры, тогда как действительно поступок этого изверга-мачехи слишком уж странен и, может быть, в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы. И потому подосадуешь иногда на простодушие и шаблонство приемов, входящих, по разным причинам, в употребление у наших талантливейших адвокатов. С другой стороны, думаешь так: ведь трибуны наших новых судов – это решительно нравственная школа для нашего общества и народа. Ведь народ учится в этой школе правде и нравственности; как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздастся подчас с этих трибун? Впрочем, с них раздаются иногда самые невинные и веселые шутки. Г-н защитник в конце своей речи применил к своей клиентке цитату из Евангелия: «она много любила, ей многое простится». Это, конечно, очень мило. Тем более что г-н защитник отлично хорошо знает, что Христос вовсе не за этакую любовь простил «грешницу». Считаю кощунством приводить теперь это великое и трогательное место Евангелия; вместо этого не могу удержаться, чтобы не привести одного моего давнишнего замечания, очень мелкого, но довольно характерного. Замечание это, разумеется, нисколько не касается г-на Утина. Я заметил еще с детства моего, с юнкерства, что у очень многих подростков, у гимназистов (иных), у юнкеров (побольше), у прежних кадетов (всего больше) действительно вкореняется почему-то с самой школы понятие, что Христос именно за эту любовь и простил грешницу, то есть именно за клубничку или, лучше сказать, за усиленность клубнички, пожалел, так сказать, привлекательную эту немощь. Это убеждение встречается и теперь у чрезвычайно многих. Я помню, что раз-другой я даже задавал себе серьезно вопрос: отчего эти мальчики так наклонны толковать в эту сторону это место Евангелия? Небрежно ли их так учат Закону Божию? Но ведь остальные места Евангелия они понимают довольно правильно. Я заключил, наконец, что тут, вероятно, действуют причины более, так сказать, физиологические: при несомненном добродушии русского мальчика тут, вероятно, как-нибудь тоже действует в нем и тот особый избыток юнкерских сил, который вызывается в нем при взгляде на всякую женщину. А впрочем, чувствую, что это вздор, и не следовало бы приводить вовсе. Повторяю, г-н Утин, уж конечно, отлично знает, как надо толковать этот текст, и для меня сомнения нет, что он просто пошутил в заключение речи, но для чего – не знаю.
Нечто об одном здании. Соответственные мысли
Ложь и фальшь, вот что со всех сторон, и вот что иногда несносно!
И как раз, когда шел в суде процесс г-жи Каировой, я попал в Воспитательный дом, в котором никогда не был и куда давно порывался посмотреть. Благодаря знакомому врачу осмотрели все. Впрочем, о подробных впечатлениях моих потом; я даже ничего не записал и не отметил, ни годов, ни цифр; с первого шага стало ясно, что с одного раза нельзя осмотреть и что сюда слишком стоит еще и еще воротиться. Так мы и положили сделать с многоуважаемым моим руководителем, врачом. Я даже намерен съездить в деревни, к чухонкам, которым розданы на воспитание младенцы. Следовательно, описание мое все в будущем, а теперь мелькают лишь воспоминания: памятник Бецкому,[148] ряд великолепных зал, в которых размещены младенцы, удивительная чистота (которая ничему не мешает), кухни, питомник, где «изготовляются» телята для оспопрививания, столовые, группы маленьких деток за столом, группы пяти– и шестилетних девочек, играющих в лошадки, группа девочек-подростков, по шестнадцати и семнадцати, может быть, лет, бывших воспитанниц Дома, приготовляющихся в нянюшки и старающихся восполнить свое образование: они уже кое-что знают, читали Тургенева, имеют ясный взгляд и очень мило говорят с вами. Но г-жи надзирательницы мне больше понравились: они имеют такой ласковый вид (ведь не притворились же они для нашего посещения), такие спокойные, добрые и разумные лица. Иные, видимо, имеют образование. Очень заинтересовало меня тоже известие, что смертность младенцев, собственно растущих в этом доме (в этом здании то есть), несравненно меньшая, чем смертность младенцев на воле, в семействах, чего, однако, нельзя сказать про младенцев, розданных по деревням. Видел, наконец, и комнату внизу, куда вносят младенцев их матери, чтоб оставить их здесь навеки… Но все это потом. Я помню только, что с особенным и с каким-то странным, должно быть, взглядом приглядывался к этим грудным детям. Как ни абсурдно было это, а они мне показались ужасно дерзкими, так что я, помню, внутри, про себя, улыбнулся даже на мою мысль. В самом деле, вот он где-нибудь там родился, вот его принесли, – посмотрите, как он кричит, орет, заявляет, что у него грудченка здорова и что он жить хочет, копошится своими красными ручками и ножками и кричит-кричит, как будто имеет право так вас беспокоить; ищет груди, как будто имеет право на грудь, на уход; требует ухода, как будто имеет точь-в-точь такое же право, как и те дети – там, в семействах: так вот все и бросятся и побегут к нему – дерзость, дерзость! И, право, вовсе без юмору говорю это, право, оглядишься кругом и нет-нет, а невольно мелькает мысль: а что, а ну как в самом деле он кого-нибудь разобидит? А ну как впрямь кто-нибудь вдруг его возьмет и осадит: «вот тебе, пузырь, что ты, княжеский сын, что ли?» Да разве и не осаживают? Это не мечта. Швыряют даже из окон, а однажды, лет десять назад, одна, тоже, кажется, мачеха (забыл уж я, а лучше бы, если бы мачеха), наскучив таскать ребенка, доставшегося от прежней жены и все кричавшего от какой-то боли, подошла к кипящему, клокочущему самовару, подставила прямо под кран ручку досадного ребеночка и… отвернула на нее кран. Это было тогда во всех газетах. Вот осадила-то, милая! Не знаю только, как ее осудили, – да и судили ли, полно? Не правда ли, что «достойна всякого снисхождения»: иногда ужасно ведь эти ребятишки кричат, расстроят нервы, ну, а там бедность, стирка, не правда ли? Впрочем, иные родные матери, так те хоть и «осадят» крикуна, но гораздо гуманнее: заберется интересная, симпатичная девица в укромный уголок – и вдруг с ней там обморок, и она ничего далее не помнит, и вдруг, откуда ни возьмись, ребеночек, дерзкий, крикса, ну и попадет нечаянно в самую влагу, ну и захлебнется. Захлебнуться все же легче крана, не правда ли? Этакую и судить нельзя: бедная, обманутая, симпатичная девочка, ей бы только конфетки кушать, а тут вдруг обморок, и как вспомнишь еще вдобавок Маргариту «Фауста» (из присяжных встречаются иногда чрезвычайно литературные люди), то как судить, – невозможно судить, а даже надо подписку сделать. Так что даже порадуешься за всех этих деток, что попали сюда в это здание. И, признаюсь, у меня тогда все рождались ужасно праздные мысли и смешные вопросы. Я, например, спрашивал себя мысленно и ужасно хотел проникнуть: когда именно эти дети начинают узнавать, что они всех хуже, то есть что они не такие дети, как «те другие», а гораздо хуже и живут совсем не по праву, а лишь, так сказать, из гуманности? Проникнуть в это нельзя, без большого опыта, без большого наблюдения над детками, но a priori[149] я все-таки решил и убежден, что узнают они об этой «гуманности» чрезвычайно рано, то есть так рано, что, может быть, и нельзя поверить. В самом деле, если б ребенок развивался только посредством научных пособий и научных игр и узнавал мироведение через «утку», то, я думаю, никогда бы не дошел до той ужасающей, невероятной глубины понимания, с которою он вдруг осиливает, совсем неизвестно каким способом, иные идеи, казалось бы совершенно ему недоступные. Пяти-шестилетний ребенок знает иногда о Боге или о добре и зле такие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле заключишь, что этому младенцу даны природою какие-нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неизвестные, но которые мы даже, на основании педагогики, должны бы были почти отвергнуть. О, без сомнения, он не знает фактов о Боге, и если тонкий юрист начнет пробовать шестилетнего насчет зла и добра, то только расхохочется. Но вы только будьте немножко потерпеливее и повнимательнее (ибо это стоит того), извините ему, например, факты, допустите иные абсурды и добейтесь лишь сущности понимания – и вы вдруг увидите, что он знает о Боге, может быть, уже столько же, сколько и вы, а о добре и зле и о том, что стыдно и что похвально, – может быть, даже и гораздо более вас, тончайшего адвоката, но увлекающегося иногда, так сказать, торопливостью. К числу таких ужасно трудных идей, столь неожиданно и неизвестно каким образом усваиваемых ребенком, я и отношу у этих здешних детей, как сказал выше, и это первое, но твердое и на всю жизнь незыблемое понятие о том, что они «всех хуже». И я уверен, что не от нянек и мамок узнает ребенок об этом; мало того, он живет так, что, не видя «тех других» детей, и сравнения сделать не может, а между тем вдруг вы присматриваетесь и видите, что он ужасно уже много знает, что он слишком много уже раскусил с самой ненужной поспешностью. Я, конечно, зафилософствовался, но я тогда никак не мог сладить с течением мыслей. Мне, например, вдруг пришел в голову еще такой афоризм: если судьба лишила этих детей семьи и счастья возрастать у родителей (потому что не все же ведь родители вышвыривают детей из окон или обваривают их кипятком), – то не вознаградить ли их как-нибудь другим путем; возрастив, например, в этом великолепном здании, – дать имя, потом образование и даже самое высшее образование всем, провесть через университеты, а потом – а потом приискать им места, поставить на дорогу, одним словом, не оставлять их как можно дальше, и это, так сказать, всем государством, приняв их, так сказать, за общих, за государственных детей. Право, если уже прощать, то прощать вполне. И тогда же мне подумалось про себя: а ведь иные, пожалуй, скажут, что это значит поощрять разврат, и вознегодуют. Но какая смешная мысль: вообразить только, что все эти симпатичные девицы нарочно и усиленно начнут рождать детей только что услышат, что тех отдадут в университеты.
«Нет, – думал я, – простить их и простить совсем; уж коли прощать, так совсем!» Правда, многим, очень многим людям завидно станет, самым честным и работящим людям будет завидно: «Как, я, например, – подумает иной, – всю жизнь работал как вол, ни одного бесчестного дела не сделал, любил детей и всю жизнь бился, как бы их образовать, как бы их сделать гражданами, и не мог, не мог; гимназии даже не мог дать вполне. Вот теперь кашляю, одышка, на будущей неделе помру, – прощай, мои детушки, милые, все восемь штук! Все-то тотчас перестанут учиться, все тотчас разбредутся по улицам да на папиросные фабрики, и это бы еще дай бог… А те вышвырки университет доканчивать будут, места получат, да еще я же свою копейку ежегодно на их содержание косвенно или прямо платил!»
Этот монолог непременно скажется и – какие, в самом деле, противоречия? В самом деле, отчего это все так устроилось, что ничего согласить нельзя? Подумайте, ну что, казалось бы, могло быть законнее и справедливее этого монолога? А между тем ведь он в высшей степени незаконен и несправедлив. Стало быть, и законен и, стало быть, и незаконен, что за путаница!
Не могу, однако, не досказать и иного чего, что мне тогда померещилось. Например: «если простить им, так простят ли они?» Вот ведь тоже вопрос. Есть иные высшего типа существа, те простят; другие, может быть, станут мстить за себя, – кому, чему, – никогда они этого не разрешат и не поймут, а мстить будут. Но насчет «мщения обществу» этих «вышвырков», если б таковое происходило, скажу так: я убежден, что это мщение всегда скорее может быть отрицательное, чем прямое и положительное. Прямо и сознательно мстить никто и не станет, да и сам даже не догадается, что мстить хочет, напротив, дайте только им воспитание, ужасно многие из вышедших из этого «здания» выйдут именно с жаждой почтенности, родоначальности, с жаждой семейства; идеал их будет завести свое гнездо, начать имя, приобрести значение, взвести деток, возлюбить их, а при воспитании их отнюдь, отнюдь не прибегать к «зданию», или к помощи на казенный счет. И вообще, первым правилом будет даже забыть дорогу к этому зданию, имя его. Напротив, этот новый родоначальник будет счастлив, если проведет своих деток через университет, на свой собственный счет. Что же, – эта жажда буржуазного, данного порядка, которая будет преследовать его всю жизнь, – что это будет: лакейством или самою высшею независимостью? По-моему, скорее последним, но душа все-таки останется на всю жизнь не совсем независимою, не совсем господскою, и потому многое будет не совсем приглядно, хотя и в высшей степени честно. Полную независимость духа дает совсем другое… но об этом потом, это тоже длинная история.







